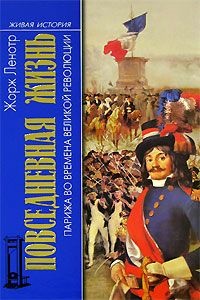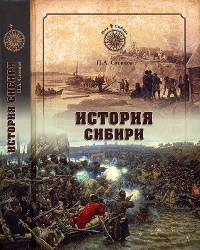Рассыпайтесь, молодцы, за камни, за кусты,По два в ряд.
Днем теплый летний ветер слабо доносил хоровое пение, звуки оркестра, но зато по вечерам, когда прекращались крики разносчиков, несносная езда по шоссе экипажей и дребезжащих извозчичьих пролеток, жизнь точно замирала вместе с гаснущими лучами солнца, и мы ясно и отчетливо слышали вечернюю молитву, мы знали, что это поют наши кадеты, наш корпус, против которого и стояла наша дача. И тогда, и всю последующую жизнь, и теперь я без глубокого волнения не могу слышать хорового молитвенного пения. Заслышав молитву, няня всегда складывала мои руки и, держа их в своих, говорила:
– Молитесь, барышня, молитесь, родная! Это ангелы в небесах поют славу Божию…
И, вся вытянувшись, закинув голову, я напряженно ловила каждый звук, глядя в небо, веря, что молитва летит и оттуда, что и там теперь поют ангелы с голубыми крыльями, окружая престол Божий.
С балкончика нашей дачи нам виден был и бельведер, двухэтажный узенький павильон с двумя входами и лестницей внутри, соединявшей две квартиры, вернее, отделеньица, каждое в две комнаты. Внизу жил какой-то офицер, а наверху – отец; у него была спальня и большая канцелярия, в которой по вечерам и даже ночью подолгу горел огонь (я это знала из гневных слов матери), и за огнем сидели не переутомленные писаря, а веселые офицеры, собравшиеся к отцу поиграть в карты и выпить шампанского.
Наши детские сердца и мысли всегда стремились туда… в лагерь… Мальчики бегали сами в те часы, когда кадеты были свободны: в особенности часто бывал там Андрюша, который с осени уже должен был поступить в корпус. Я ходила туда с няней под вечер, в часы, когда отец был свободен. Паршивка буквально горела у меня под ногами – так торопилась я пройти это пространство, казавшееся мне бесконечным. Сторож пускал нас через поле для сокращения пути.
Подходя к лагерю, я начинала смеяться и радостно визжать: я знала, что, как только с передней линейки заметят двигающийся гриб, на который я походила в соломенной шляпе с широкими полями, сейчас дадут знать Евгеше, и тот выбежит мне навстречу, схватит на руки и, несмотря на нянины крики: «Осторожней, Евгений Петрович! Упаси Бог, споткнетесь», – он помчится со мною, крича няне:
– Иди, Софьюшка, к дяде, мы тебе принесем ее туда целой и невредимой!
И няня не протестовала, шла дальше к бельведеру, а Евгеша, передавая меня с рук на руки то тому, то другому кадету, сопутствовал мне со все возраставшей свитой до своей палатки, где все три двоюродных брата принимали меня как дорогую гостью.
На все мои бесчисленные вопросы они отвечали подробно и торопливо, показывали мне ранцы, давали пить из «манерки», которая пахла медью, вели меня к своему маркитанту, где угощали сладкими пирожками со взбитыми сливками, оставлявшими липкие белые усики на губах, после чего надо было идти к фонтану-умывальнику, стоявшему среди палаток. Вода в нем была совсем холодная и брызгала из подставленных горсточкой ладоней во все стороны.
Водили меня и в столовую, где давали пить из грубой оловянной кружки темный пенистый квас, казавшийся необыкновенно вкусным.
Я росла веселым и ласковым ребенком, поэтому у меня было много друзей среди кадетов; все они возились со мной, как с сестрой; я не помню случая не только грубости, но даже неласкового слова от кого бы то ни было за все мои частые и долгие пребывания в лагере среди кадетов, без всякого надзора. Когда наконец я изъявляла желание отправиться к отцу, к моим услугам являлась одноколесная тачка, в которой возили песок, я садилась в нее на набросанные шинели, и меня мчали к самому бельведеру.
В течение лета в Петергофе у нас, детей, была совсем обособленная жизнь, в которой главную роль играли наши няни, собаки, собственные грядки в огороде и, наконец, самое главное – связь с лагерем и кадетами. Жизнь взрослых шла совершенно отдельно, и мы появлялись среди них только в торжественные моменты, всегда нарядные, завитые, а потому недовольные и стеснительные. Появлявшиеся гости нас не интересовали, и я из всех помню только одного старого, щетинистого, необыкновенно худого чиновника Осипова, появление которого наводило на всех ужас. Мать, когда ей докладывали, что из города прибыл «чиновник Осипов» (его никто почему-то иначе не называл), в ужасе махала руками и даже закрывала глаза.
– Ради Бога, ради Бога, – говорила она, как будто ей делалось дурно, – не допускайте его до меня; Александр Федорович со своими благодеяниями с ума меня сводит; мало того, что в городе нет отбою от всяких нищих, еще и сюда приезжают. Софьюшка, пошли сейчас денщика в лагерь, прикажи принести несколько солдатских порций каши, щей и хлеба, а пока вели ему посидеть где-нибудь на огороде да дай ему скорее хоть кринку молока.
Этот ужас матери и заготовка такого количества провизии не могла не возбудить нашего любопытства. Один за другим мы проникали в огород и останавливались на почтительном расстоянии от того места, где кормился Осипов. Глаза его необыкновенно блестели; очевидно, стыдясь своего недуга, он заискивающе улыбался нам, кивал головой и даже называл нас по имени, но мы не поддавались и никогда близко не подходили к нему; даже Андрей не трогал его, не смеялся над ним, но подолгу пристально следил за тем, как щелкали большие белые зубы чиновника и неустанно двигались челюсти.
– Несчастный! – говорил всегда Андрей и уходил, уводя нас за собою. – Ну, и чего сбежались глядеть на то, как человек ест: значит, голоден!..