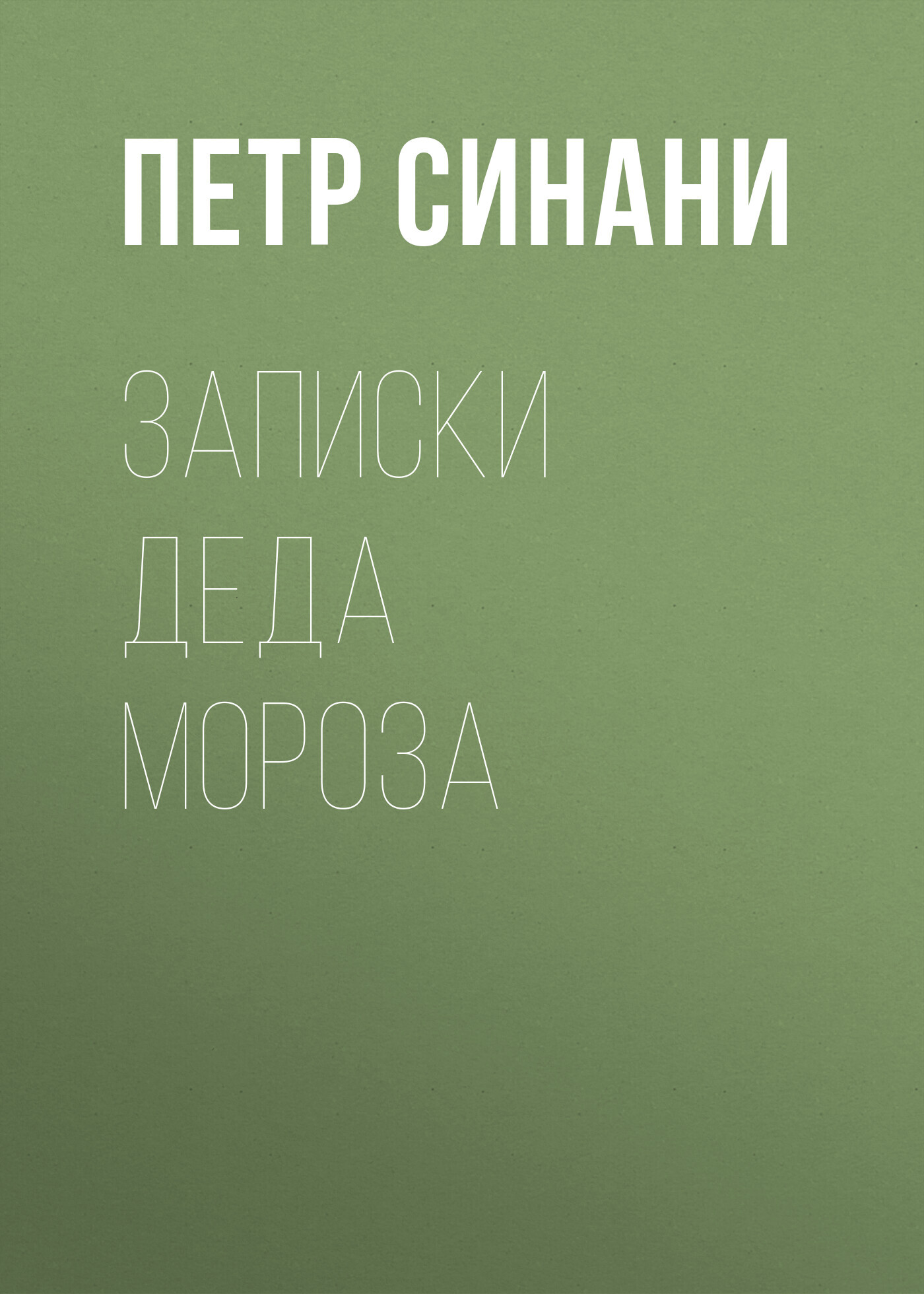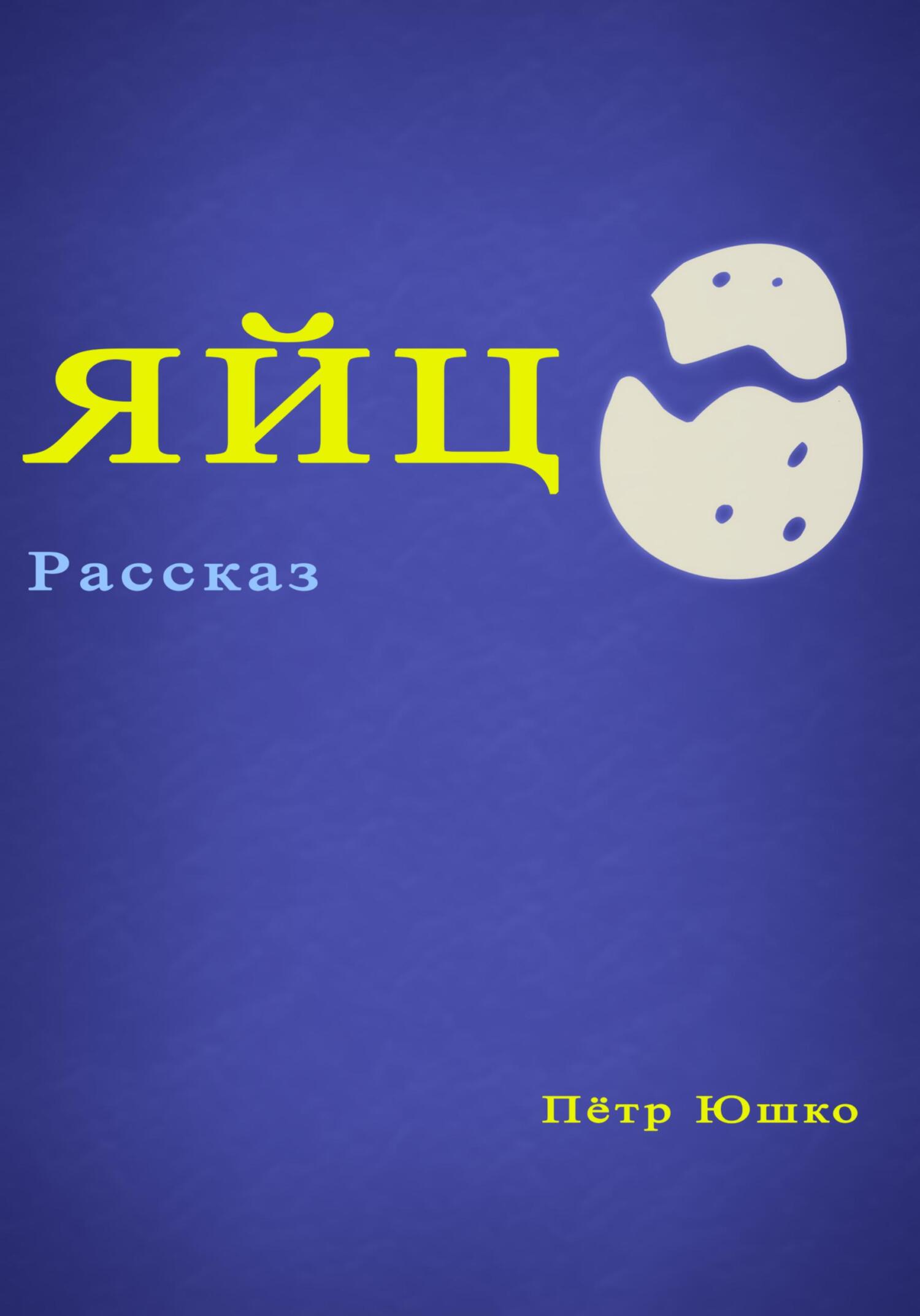вылетающее из труб стеклянного завода, немного освещает местность. Вот и город. Монастырь виднеется на той стороне Волги, ясно отражаясь в спокойной, точно заснувшей реке. Темно... а там далеко за лесом, загорается заря. Издали доносятся звуки гармоники и глухой лай собак. Волосы шевелятся на голове. Весна! Весна!... Поют где-то:
„Волга, Волга! весной многоводной
Ты не так заливаешь поля,
Как великою скорбью народной
Переполнилась наша земля.“
„Что? Это ее голос? Она там! И они все вместе, полные надежд, а я один! Зачем жить?“. Я на мосту. Вода слабо журчим около балок, темная, холодная и глубокая. „Прощай, жизнь! Прощай, Саша! Сейчас мое тело поплывет далеко, далеко от этих милых мест, где я жил, где я слишком беззаветно жил. Я не могу тебе ничего написать и с тупой болью в голове сижу у своего стола и смотрю на белый лист бумаги. Вот и револьвер лежит против меня на книгах. Через час я буду так же холоден, как и его дуло!“ Стучат. Я отворяю — передо мной Саша. „Саша, это ты?“ Я стою против нее как очарованный и смотрю ей в глаза. Сна шепчет: „Николай, ну что же ты какой не ласковый, ну, поцелуй меня!“.....Я протянул к ней руки и... проснулся.
Лампа, стоявшая на стуле, гасла, слабо освещая комнату. В углах уже скопилась темнота и подвигалась ко мне все ближе и ближе. Вдруг синий огонек в лампе замигал, забегал и, вспыхнув последний раз, потух, а на его месте остался только круг обуглившегося фитиля, который как-то зловеще блестел в темноте, постепенно замирая. Мне сделалось жутко. Отыскав коробок, я зажег спичку и вышел из спальни в комнату. На столе на книгах лежал револьвер. Спичка погасла, и я долго неподвижно стоял, прислонившись к стене; мне хотелось подкрасться к револьверу и выстрелить в темноте в себя.
На улице завыл ветер, и снег застучал в окно, казалось, сотни людей с ветвями в руках бежали мимо окна, волоча ими по стеклу. Меня охватил страх. Я быстро оделся и вышел на улицу.
Ветер валил с ног и засыпал снегом. Я с трудом дошел до ночного трактира, зашел в заднюю комнату, где было многолюднее, спросил себе пива и стал рассматривать присутствующих.
У одного стола сидели мастеровые, очевидно сапожники; четверо, одетые хотя и грязно, были в сапогах, а пятый с испитым лицом и всклоченными волосами, — в опорках и рваном ватном пиджаке. Рядом с мастеровыми сидел загулявший приказчик с извозчиком, который очевидно должен был его куда-то везти, на столе у них стояла водка и горячая закуска. Приказчик сидел развалясь, пятил глаза и пускал изредка в пространство отборное ругательство, а извозчик, подобострастно сидя на конце стула, внимательно глядел на него, наклоняясь каждый раз, когда тот поворачивал к нему голову.
Дальше сидели певчие; потом в углу за отдельным столом спившийся сельский учитель, недавно вышедший из дома умалишенных, а в другом углу „профессор“. Он был когда-то приват-доцентом, а теперь спился, сохранив только свою внешность длинные волосы, мятую шляпу и задумчивую походку. С ним сидел Березин. Когда-то он был литератором, но тоже спился и все время проводит в трактире: выпьет рюмку водки и сидит, закрыв глаза, точно погрузившись в думу.
Певчие собирались петь.
Разговор шел про диезы и бемоли. Уже несколько раз задавался тон, но кто нибудь вспоминал про бас или тенор, который брал верхнее „1а“ и поднимался спор с замечательным количеством нецензурных прибауток. Наконец запели:
„Шумела, буря, гром гремел“.
Пели хорошо, хотя совсем пьяными голосами. Я закрыл глаза и задумался; но певчие вдруг замолчали: кто-то заметил неправильность. Поднялся снова спор, воспоминания и ругня.
Учитель был уже совсем пьян. Он ничего не видел и, уставившись в одну точку, что-то бормотал. Я прислушался.
Встал на колоду и опять упал в воду! — кончил он и принялся пить пиво.
Приказчик, выругавшись энергично в последний раз, ушел сопровождаемый извозчиком. Певчие шумели все громче, а сапожники заговорили про песни и даже собрались петь.
— Прибаутки! — советовал один.
— Нет, не стоит прибаутки, пусть лучше Егорка острожную споет, — заметил другой.
— Валяй, Егорка! — начали просить его остальные
Оборванный сапожник выпил рюмку водки, облокотился на колено, лег ухом на ладонь и запел:
„Прощай, город Одесса,
Прощай, карантин!
С последним пароходом
Отправлюсь в Сахалин“
пел он тенором. На высоких нотах голос у него срывался, — раздавалась тоскливая диссонирующая нота.
„Я мать, отца зарезал,
Тетку задушил,
Младшую сестренку
Свою обольстил.
Погиб я бездомный,
Погиб навсегда,
А годы проходят,
Как мутная вода...“
Певчие молчали. Березин сидел неподвижно, как всегда, но глаза у него были открыты, — он задумчиво глядел точно куда-то вдаль; „профессор“ тоже задумался. Воротник его пальто приподнялся, шляпа съехала на брови; а учитель встал, поднял руку вверх, долго пробовал начать говорить, произнося какие-то невнятные звуки, потом надорванным пьяным голосом пробормотал: „вылез, встал на колоду и опять упал в воду!“ сел и уткнулся лицом в руки, положив их на стол.
Я понял, что не пропасть отделяет меня от учителя, от „профессора“ и от этого опустившегося сапожника. Мне хотелось встать и крикнуть им:
— И я погиб! Я тоже потерял точку опоры.
Но, взглянув пристально на их лица, я увидел, что они уже приняли обычное выражение апатии. Учитель спокойно пил пиво. Певчие опять зашумели, а сапожники запели разудалую песню. Я понял, что все они уже умерли и забыли даже муки своей смерти, и то минутное чувство, которое явилось у них сейчас, лишь слабый отблеск пережитых страданий.
— Я тоже буду таким! — подумал я. Мне сделались тяжело сидеть с ними. Я вышел на улицу и направился на набережную.
Ветер срывал с меня шляпу и слепил, засыпая снегом, но я, не останавливаясь, энергично шел против ветра. Передо мной проносились картины былого и вспоминалась вереница мыслей, передуманных за последнее время.
— Нет, я не могу спиться, не могу погибнуть так пошло! — твердил я. Но что делать?
Сейчас я сижу у своего письменного стола в своей одинокой, неуютной комнате, весь охваченный обычным настроением. Во мне бродит какая-то сила, не находящая исхода: мне хочется бороться, что-то