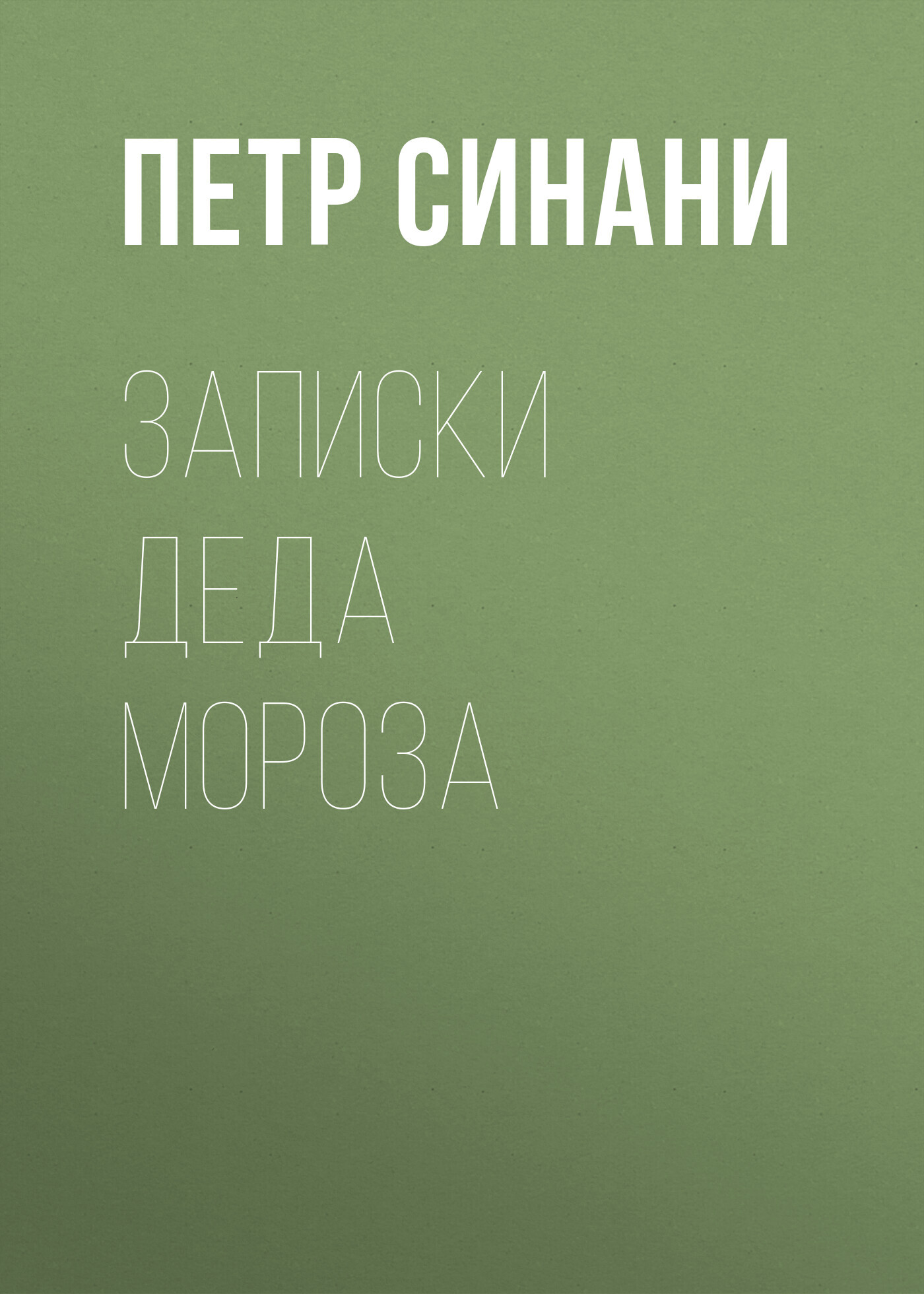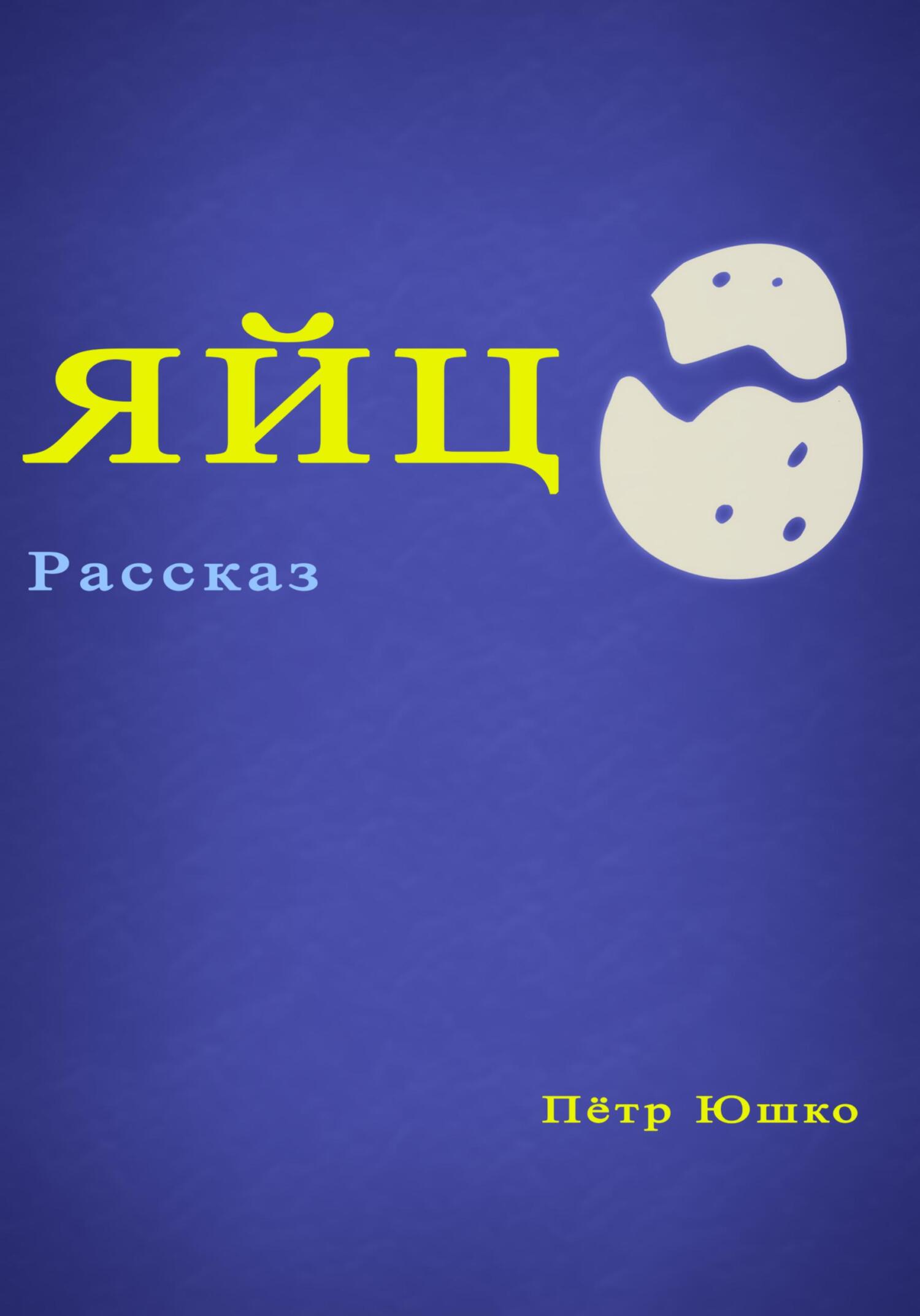Петр Кара
Любовь от бездеятельности.
(Записки неврастеника).
N-ск I. июня 189 . . г.
Очнувшись после долгой дороги в неприветливом номере провинциальной гостиницы, я невольно вспоминал только что покинутый Петербург, глядя на видневшийся в окна город с маленькими домиками и узкими пустынными улицами. Перед глазами проносились картины жизни последнего года, вспоминались: университет, новые товарищи, вечера, которые я проводил вместе с ними, горячие споры и светлые надежды на будущее; и этот город с другими людьми, улицами и постройками казался мне хуже тюрьмы. Я чувствовал себя совсем одиноким. Новые впечатления нагоняли на меня только тоску, а жить прошлым я уже не мог, потому что все события, происходившие при мне так недавно, казались давно прошедшими и далекими, как был далек от меня мой Петербург.
Долго не мог я привыкнуть к своему новому положению, и только необходимость работать для существования заставила меня втянуться понемногу в монотонную жизнь провинциального города. Я начал давать уроки и, благодаря этому, познакомился скоро со всей официальной N-ской интеллигенцией, но с этими новыми знакомыми у меня не было ничего общего. Я сошелся близко только с несколькими личностями, которые держатся отдельным кружком, и имеют с „обывателями“ знакомство только благодаря родственным связям. Все свободное время-вечера я проводил у кого-нибудь из этих новых знакомых. Бывал я всегда в одной семье, иногда в продолжение нескольких недель, потом, случайно зайдя вечером к кому-нибудь другому, начинал каждый день ходить уже туда. Разговаривал, но разговоры были всегда какие-то вялые, хотя обсуждались исключительно общественные вопросы. Слушал новости о том, кто в кого влюбился, которые передавались хоть и под величайшим секретом, но, не смотря на это, были известны положительно всем. И так изо дня в день. Кроме амурных новостей-никаких, разве что приедет кто-нибудь из Петербурга или из Москвы, поговорит недели две, три горячо о политических событиях, но скоро тоже поддается общему настроению скуки и апатии. Девицы оживятся немного, поговорят о вновь прибывшем, решая, может ли из него выйти „крупная личность“, и снова примутся за перенесение из одного дома в другой книг и амурных новостей.
Скучно жить в провинциальном городе! Куда ни придешь, все выглядят томными, недоспавшими: ходят тихо, говорят с расстановкой, а выйдешь на улицу мертвая тишина, и стаи ворон, носящаяся над городом, окончательно убьют всякое живое стремление и разгонят свежие мысли. Вечером еще тоскливее: в десять часов все спят, и только ночные сторожа трещат своими деревянными колотушками, да какой-нибудь подвыпивший запоздалый обыватель настойчиво звонит у ворот.
Иногда однообразность окружающей жизни доводила меня до такой апатии, что я терял способность что-либо делать, — тогда я напивался. Пил я всегда в компании, которая собирались у одного из бывших студентов Нильского. Наш кружок состоял из студентов и реалистов, не попавших в этом году в высшие учебные заведения. Я не могу описать своих товарищей, потому что их характерам и развитию негде было проявиться в нашей бессодержательной провинциальной жизни. Я думаю, если бы в наш город приехал даже гениальный человек, то и он не нашел бы возможности высказаться и стал бы выпивать вместе с нами, распевая хоровые песни, которые, вызывая воспоминания, заставляли бы переживать хоть былые чувства и настроения.
Почти все мои товарищи были влюблены, хотя все это старательно скрывали. Я отлично помню один вечер, когда это обнаружилось особенно ясно. Мы начали петь молча. Хоровая песня не клеилась. Лядов (бывший студент) взял гитару и запел: „Стоит гора высокая“. Особенно хорошо он спел, конец:
Придет весна,
А молодость не вернется,
Не вернется она!...
Всем сделалось еще тоскливее; все о чем-то задумались. Вдруг кто-то, очевидно сам про себя, запел: „Смейся, паяц, над разбитой любовью“. Все вздрогнули, а Нильский встал, ударил кулаком по столу и крикнул: „Да! надо смеяться над разбитой любовью, а не ныть, как ноете вы!...“ Его перебили сразу несколько человек. Ничего нельзя было разобрать.
—Председателя, председателя! — кричал Нильский.
Председателем выбрали Лядова. Он вооружился вилкой и застучал ею по стакану. Все смолкли. Нильский встал.
— Да, надо смеяться над разбитой любовью! повторил он. А мы!... плачем. Кто мы? Нам плакать? Оплакивать неудавшуюся личную жизнь?... Нет! Надо послать к черту нашу любовь, а на тратить на нее напрасно наши силы! Кто мы? Мы не наслаждаемся жизнью, как наши родичи, мы стремимся к борьбе за страдающих. Мы стремимся улучшить духовное и материальное положение народа. Мы — люди мысли и критики существующего; мы на должны этого забывать! Мы должны служить обществу и ему отдавать свои силы. Что такое любовь? Это стремление к личному счастью, а должны ли мы устраивать нашу личную жизнь, тратя на эта часть умственных сил?... Мы страдаем оттого, что неудачно влюбились?!... А что значит „удачно влюбиться“? Это значит сойтись с женщиной. Да не будет ли подобная жизнь мешать нам идти к нашей цели; не будет ли эта жизнь пошлостью, против которой мы боремся?...
— „Жена — товарищ“. „Общественные деятели умели устраивать свои семейные дела...“ — стали возражать Нильскому. Лядов заколотил вилкой по стакану.
— Нет, господа! Пошлость это будет, — выделился голос Нильского. — и потому, товарищи, выпьем за то, чтобы смеяться над разбитой любовью!
На глазах у него были слезы, он был страшно взволнован и так сильно чокнулся с кем-то, что разбил свой стакан.
— Нет! А по моему так пошло смеяться над разбитой любовью! — начал возражать Лядов. — Наша любовь не любовь аркадских пастушков. Мы любим женщину, как товарища в трудной борьбе. Наша любовь к женщине есть лучшее наше стремление. Мы вместе с любимой женщиной идем просвещать невежественную массу, рассеивать ее суеверия и учить ее отличать зло от добра. И если та, которую мы полюбим, почему-нибудь не может нас любить, то можно ли смеяться над этим? Можно ли смеяться над своими лучшими недостигнутыми стремлениями, над своею идейностью? Нет, не смеяться, а плакать надо над разбитой любовью, и потому я пью за нашу интеллигентную любовь!
Все опять встали и начали говорить, не слушая друг друга. Лядов отчаянно стучал по стакану, но в ответ ему все заговорили еще громче.
— Нет, можно ли позабыть нашу любовь и то место, где мы любили под нашим русским сереньким небом?