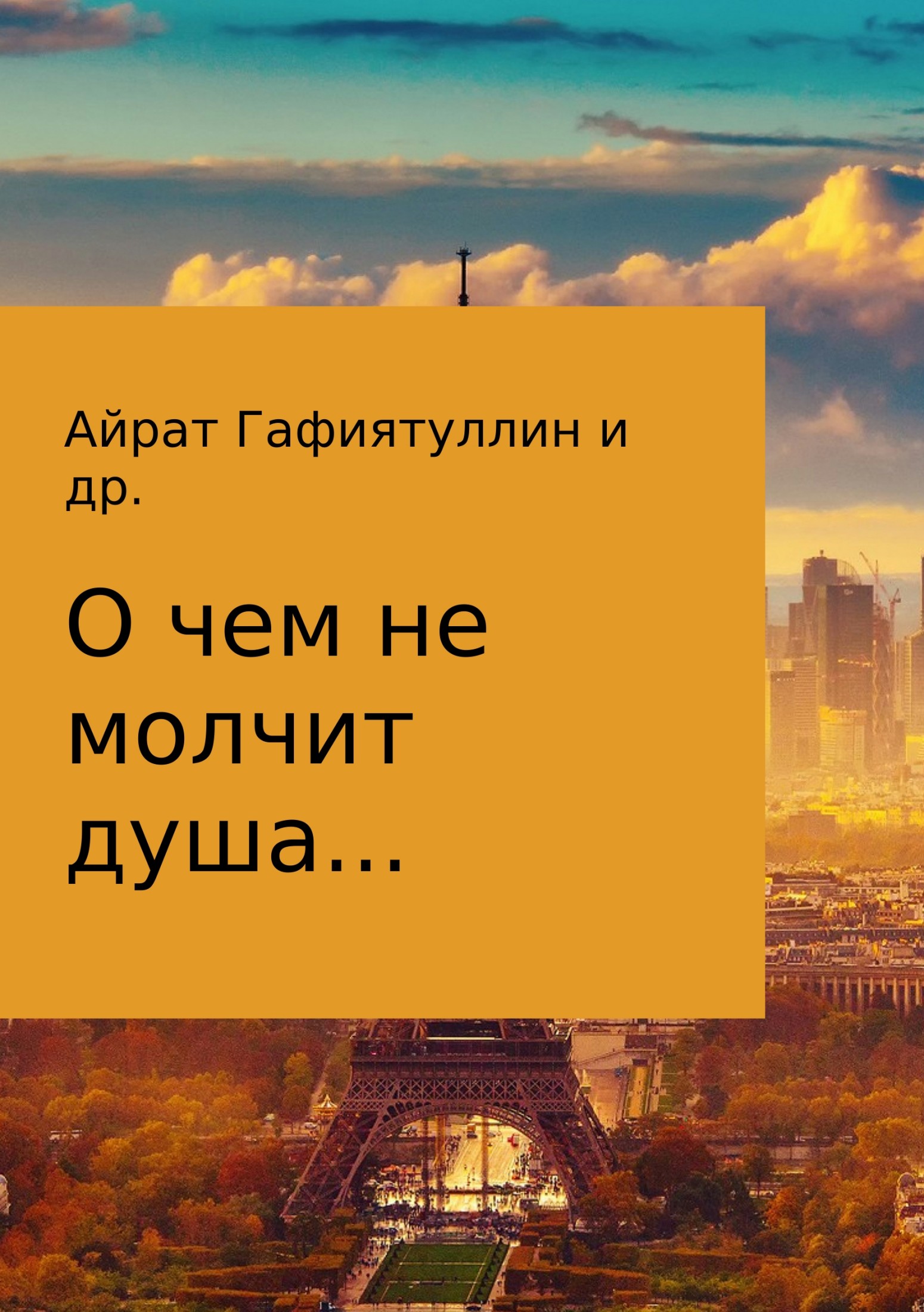ушел от двора. Дарья усадила отца на лавку, потом достала иглу и суровую нитку, сшила рассеченную губу. Отец притянул Саньку к себе, погладил по голове, молча заплакал. Слезы крупными каплями падали Саньке на руки. Дарья горестно повторяла:
— Боже ты мой, пресвятая богородица, что теперича делать будем?
Потом, когда отец успокоился, умылся и переменил рубаху, все выяснилось. Ссора с Максимом Большовым, у которого он в этом году жил в батраках, произошла из-за жеребца. Накануне вечером Никита вывел его из пригона на проминку. Рабочие лошади вместе с матками и жеребятами посреди двора ели корм из мешанинника. Увидев их, жеребец встал, на дыбы, рванулся, сбил Никиту с ног. Вспугнутые кони заметались. Пока Никита поднимался с земли, жеребец опрокинул мешанинник и распорол себе правую лопатку. К утру вернулся хозяин, бывший где-то в гостях. Перед тем как лечь спать, обошел хозяйство и, заметив у любимого жеребца поротую рану, смазанную дегтем, не спрашивая, что произошло, пошел на Никиту с кулаками.
На следующий день Дарья собрала мужа в дальнюю дорогу. Он вышел за ограду, снял шапку, поклонился на четыре стороны.
— Ну, родная землюшка, прощай! Поливал я тебя потом для чужих людей, а теперича хватит. Пойду искать долю в другом месте.
Обернулся к Дарье, строго добавил:
— А ты, Дарья, береги сына! С тебя за него ответ спрошу…
Санька и Дарья долго стояли за оградой, наблюдая, как все дальше и дальше уходил родной человек. Больше они его не видели. Полгода Никита работал где-то в городе, на заводе. Жилось ему, видно, тоже не сладко. Изредка прибывали от него письма с поклонами и жалкие гроши, чтобы семья не умерла с голоду. Потом он исчез. Доходили слухи: ушел он на войну против Колчака и где-то в Сибири погиб в бою. Вскоре слух подтвердился. Дарья наревелась досыта, справила по мужу поминки. И остался Санька сиротой.
Но на этом беды не кончились. После того как Дарья овдовела, отобрал у нее Максим Большов чуть не весь земельный надел. Распахал лучшую землю на Шуранкуле, от которой кормилась семья Субботиных, забрал покос и весь лес. Объяснил он это просто:
— Твой-то Никита, когда у меня в работниках жил, плату взял за год, а сам половины срока не отработал. Вот, стало быть, лес и пашня пойдут в уплату долгов.
В двадцатом году Санька с матерью еле скоротали зиму, а к весне стало вовсе невмоготу. С голода начали пухнуть ноги. Пришлось Саньке идти за подаянием.
Уговорилась Дарья со своей дальней родственницей бабкой Таисией, повесила Саньке на плечо нищенскую суму, благословила на позор и стыд.
На троицын день, чуть только отзвонили колокола к заутрене, встали Санька с бабкой Таисией у церковных ворот. Бабушка была маленькая, сгорбленная. Ходила, опираясь на большую суковатую палку, которой при случае отбивалась от собак. Санька был ростом с нее, тощий, ключицы и костлявые плечи выпирали у него из-под рубахи, как сучки на бабушкиной палке.
Бабушка Таисия была добрая и понимала, как тягостно Саньке стоять с ней у паперти. Потрепала по плечу и шепотом, чтобы другие нищие не слышали, ободрила:
— Смелее будь, Санюшка! Не гляди на людей волком. Люди, они пожалеть любят. Будешь просить милостыню, — не торопись, старайся, когда руку протянешь, слова-говорить негромко. Нищему человеку надо быть тише воды, ниже травы. Куда, дитятко, денешься, коли уж наша участь такая…
Хорошо было то утро троицына дня. Земля лежала, словно умытая, нежилась под весенним солнышком. Деревья в церковной ограде стояли в густой листве, в тени под ними играли солнечные зайчики, обдавало запахом свежей травы и прошлогодних листьев-падаликов, густо усеявших землю.
От ласковых слов бабушки Таисии Саньке хотелось заплакать и куда-нибудь убежать. Глотая слезы и не глядя на толпящихся нищих — стариков и старух с обвислыми большими сумами, — он жался к бабушке, но она тихонько отпихивала его от себя, уговаривала:
— Не бойся, дитятко! Не мы первые, не мы и последние. Гликось, сколько здесь миру! Все, миленок, жить хотят, всем кушать надо…
Народ шел в церковь. Проходя мимо нищих, мужики и бабы совали им на ладони куски хлеба, шаньги, пирожки и медные пятаки.
Саньку с бабушкой Таисией нищие оттеснили от ворот, прижали к кирпичной церковной ограде.
Перед концом заутрени к церкви подъехал Прокопий Юдин. Санька его хорошо знал, потому что часто ходил в маслобойню «гонять коней».
Следом за ним к коновязи на рысях подкатил высокий бородатый мужик. Он медленно слез с ходка, блестя лакированными сапогами с набором, поправил на себе гарусный кушак и степенно прошел к воротам. На кирпичной дорожке, выложенной до самой паперти, снял с головы высокий картуз и, упав на колени, истово перекрестился.
Сердце у Саньки забилось. Он дернул бабушку Таисию за рукав, прошептал:
— Это он, бабушка!
— Кто, дитятко?
— У которого тятька в работниках жил…
— Макся! Будь он проклят, ирод собачий, — подтвердила бабушка и, перекрестившись, добавила: — Господи, прости меня грешную!..
Максим Большов поднялся с колен и, вынув из кармана горсть медяков, не торопясь роздал их столпившимся старикам и старухам. Потом, скрипя сапогами, скрылся в церковных дверях.
В толпе кто-то заметил:
— Грехи пошел замаливать, Макся-то… За великие грехи медяками отделывается. А ведь ему и золотыми рублевиками от грехов не избавиться. Варна-ак!..
Обедня длилась долго. Солнце уже поднялось высоко, когда, наконец, пономарь Иван Богомолов залез на колокольню, ударил во все колокола. С карниза колокольни слетела стая галок. Церковный благовест с перезвоном лился над селом. Пестрая плотная толпа людей вывалила из церкви. Какая-то старуха в черном сарафане и черном платке встала напротив Саньки, долго рылась в кармане, выбрала трехкопеечную медную монету, всю стертую, и прошамкала: «За упокой души старца Спиридона». Санька перекрестился и принял.
Прошел поп, отец Никодим. Громко откашливаясь, проследовал дьякон. Пономарь Иван, звеня большими ключами, начал запирать церковь. Нищие разбредались вдоль улицы. Монетка, два блина и одна ватрушечка с творогом — вот и все, что Санька собрал за утро. Дома его ждала мать, опухшая от голода, да и самому так хотелось есть, что желудок болел. Бабушка Таисия дернула Саньку за рукав:
— Пойдем, Саня, под окнами. Люди сейчас за стол садятся. Может, кто смилостивится, подаст.
— Не пойду я, бабушка.
— Отчего же, миленок?
— Стыдно мне, не могу!
Она грустно покачала головой:
— Чего же, дитенок, сделаешь? Стыдно не стыдно, а ведь жить нечем! Надо идти в люди, просить. Ты ничего не крал. Душа у тебя, как у голубя, чистая. Нужда гонит. Бог все видит, все знает.