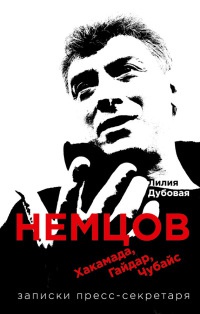На следующее утро нас отвезли обратно в аэропорт, где мы сели в четырехмоторный «Ил» для непродолжительного перелета в Сараево. На борту были еще несколько врачей, но в основном здесь были миротворцы ООН из Нигерии в полном боевом обмундировании. Когда мы вошли в боснийское воздушное пространство, освещение салона сменилось с белого на красный – и без того напряженная атмосфера на борту еще больше накалилась. В жутком полумраке повисло чувство, близкое к тревоге, особенно когда было велено надеть бронежилеты и каски.
На подлете к Сараеву мы неожиданно резко пошли на спуск, чуть ли не в крутое пике – согласно протоколу, снижение должно происходить как можно быстрее, а заходить на посадку необходимо небольшими кругами – своеобразным штопором, чтобы не стать легкой мишенью для реактивного снаряда.
Самолет затрясло от нагрузки, и я был уверен, что мы разобьемся, но в самый последний момент нос самолета резко задрался, и шасси коснулись единственной посадочной полосы в тени горы Игман.
Не успели мы перевести дыхание, как двери распахнулись, и кто-то закричал: «Выходим! Выходим!» – самолет не мог долго оставаться на взлетной полосе, это было слишком опасно, поэтому мы похватали вещи и побежали со всех ног через летное поле к залу прилета, если его можно было так назвать. Это было обшарпанное бетонное здание, полное вооруженных солдат, – стоило нам оказаться внутри, как они бросились к только что оставленному самолету, и вскоре он взмыл в воздух, проведя на земле меньше десяти минут.
По выбитым окнам и поврежденным снарядами зданиям аэропорта, диспетчерская вышка которого была в полуразрушенном состоянии, было понятно, что относительная безопасность Загреба осталась позади. Когда мы выехали на дорогу, плачевное состояние города стало особенно очевидным: кругом были послевоенные многоэтажки и строения из серого бетона, изуродованные снарядами и огнем; городскую архитектуру в советском стиле не украсили ни отсутствие целых кусков зданий, ни промозглый морозный туман, обволакивавший, казалось, все вокруг.
Сначала нас отвезли в бронированном «Лендровере» в штаб «Врачей без границ» рядом с Кошевской больницей. Здесь провели еще один инструктаж, который теперь звучал на фоне особого сараевского саундтрека – звуков автоматных очередей, то и дело разбавляемых взрывами артиллерийских снарядов. Принимавшая нас женщина выглядела ужасно – осунувшаяся, изможденная и измотанная стрессом. Психиатр по профессии, она выглядела так, словно ее конец совсем близок. Она вкратце изложила текущую ситуацию. Судя по ее словам, неутешительную: она раз за разом повторяла про необходимость остерегаться снайперов, попутно рассказывая о многочисленных убитых друзьях. Казалось, она пережила серьезную психологическую травму, а может, и буквально была контужена. Я больше ее не встречал.
Впрочем, работать мне предстояло не в Кошевской больнице, а в более крупной психиатрической лечебнице в центре города – из-за обилия дыр от снарядов ее прозвали швейцарским сыром. Именно сюда первым делом и доставляли бо́льшую часть раненых. Кошевская больница использовалась для реконструктивных операций на пациентах, которым не угрожала опасность.
МОЙ ПРИЕЗД, ДОЛЖНО БЫТЬ, ДАЛ ХОТЬ КАКУЮ-ТО ПЕРЕДЫШКУ РАБОТАЮЩИМ ТАМ ЛЮДЯМ – Я СРАЗУ ЗАМЕТИЛ, ЧТО ГОРСТКА ХИРУРГОВ, МЕДСЕСТЕР И АНЕСТЕЗИОЛОГОВ ИЗМОТАНА НЕУТИХАЮЩИМ ПОТОКОМ ПАЦИЕНТОВ, ЕЖЕЧАСНО ПОСТУПАЮЩИХ В БОЛЬНИЦУ.
По какой-то причине два хирурга не горели желанием отдавать мне пациентов – я принялся за работу лишь в качестве доблестного помощника. У меня сложилось впечатление, что они отнеслись ко мне с подозрением, поскольку выглядел я молодо, а они понятия не имели, насколько я опытен или вообще компетентен. Я действительно никогда не сталкивался с такими ранениями; люди поступали с ними сюда каждый час. Я не раз сталкивался с последствиями тупых травм, но теперь воочию видел результаты осколочных ранений и попадания высокоскоростных пуль. В современных осколочно-фугасных устройствах, таких как артиллерийские мины, бомбы и снаряды, корпус со взрывчатым веществом специально сделан так, чтобы при взрыве разлетаться мелкими частями в разные стороны, причиняя чудовищные повреждения человеческим телам.
Некоторые травмы были слишком жуткими, чтобы описывать их здесь, но основное отличие от моей работы в Великобритании состояло в том, что у многих раненых отсутствовали разные части тела. Даже в автокатастрофах люди редко становятся жертвами травматической ампутации. Здесь же это было обычным делом.
Я ВПЕРВЫЕ СТОЛКНУЛСЯ С ПАЦИЕНТАМИ, ЧЬЯ ЖИЗНЬ И СМЕРТЬ АССОЦИИРОВАЛИСЬ С ПОЛНЫМ ОТЧАЯНИЕМ.
Еще одним потрясением стало то, что сюда доставляли людей, которые уже были явно мертвы. Порой их сопровождали родственники и друзья, умолявшие сделать все возможное и спасти, но мы не владели даром воскрешения, а могли лишь попытаться утешить живых и позаботиться о телах их погибших близких.
В ту ночь я снова дрожал в своем спальном мешке, но на этот раз уснуть не давал оглушительный грохот стрельбы вокруг. Он никогда не прекращался, хотя снайперы, как правило, были менее активны по ночам, поскольку не могли видеть свои цели. Артобстрел между тем продолжался, и вскоре я уже мог отличить звук подлетающих со стороны сербов снарядов и ответных ракет, выпущенных в их направлении. Была едва заметная разница в высоте звука, и со временем все уже совершенно безразлично относились к гулу ракет, которые, как мы знали, летели от нас.
Первые два дня я продолжал играть роль мальчика на побегушках – мне разрешалось наблюдать, подавать, переносить и помогать, но местные хирурги не разрешали никого оперировать. Меня это начало порядком раздражать – было непонятно их отношение. Я ведь был там, чтобы помогать, разве не так? Позже, познакомившись с боснийцами ближе, я понял, что в этом не было ничего личного – просто все понимали, что у волонтеров вроде меня есть возможность в любой момент уехать и вернуться в свои теплые, безопасные дома, и осознание этого иногда вызывало натянутые отношения. То же самое они думали и о журналистах и других мимолетных гостях, которые то и дело появлялись и исчезали. Если подумать, было бы даже странно, если бы кто-то из местных не увидел во мне подобных «туристов» – во время той поездки довелось услышать подобные обвинения в своей адрес.
На третий день один из хирургов не пришел. Не появился он и позже. Для всех так и осталось загадкой, был ли он убит или же каким-то чудом умудрился сбежать. Ходили слухи, будто он раздобыл пропуск УВКБ ООН[22] и использовал его в качестве спасительного билета.
Решив не упускать такой возможности, я забрал себе освободившуюся операционную. Отчетливо помню своего первого настоящего пациента – пожилую женщину, которой на вид было лет семьдесят пять. Шрапнелью ей оторвало обе ноги – одну выше колена, а вторую ниже – и одну руку. Это были три чудовищных ранения – пожалуй, ничего страшнее прежде мне видеть не доводилось. Она поступила вместе с родными, которые требовали каких-то действий и помощи, но я попросту не знал чем помочь. Она была в сознании, но лишь едва, достигнув того предсмертного состояния, когда наступающее забытье служит прелюдией смерти. Первая реакция на полученную травму – это боль, но по прошествии времени или при сильной кровопотере организм преодолевает болевой порог и начинает отключаться. Казалось, она уже дошла до этой стадии и теперь лежала, тихонько постанывая, при последнем издыхании.