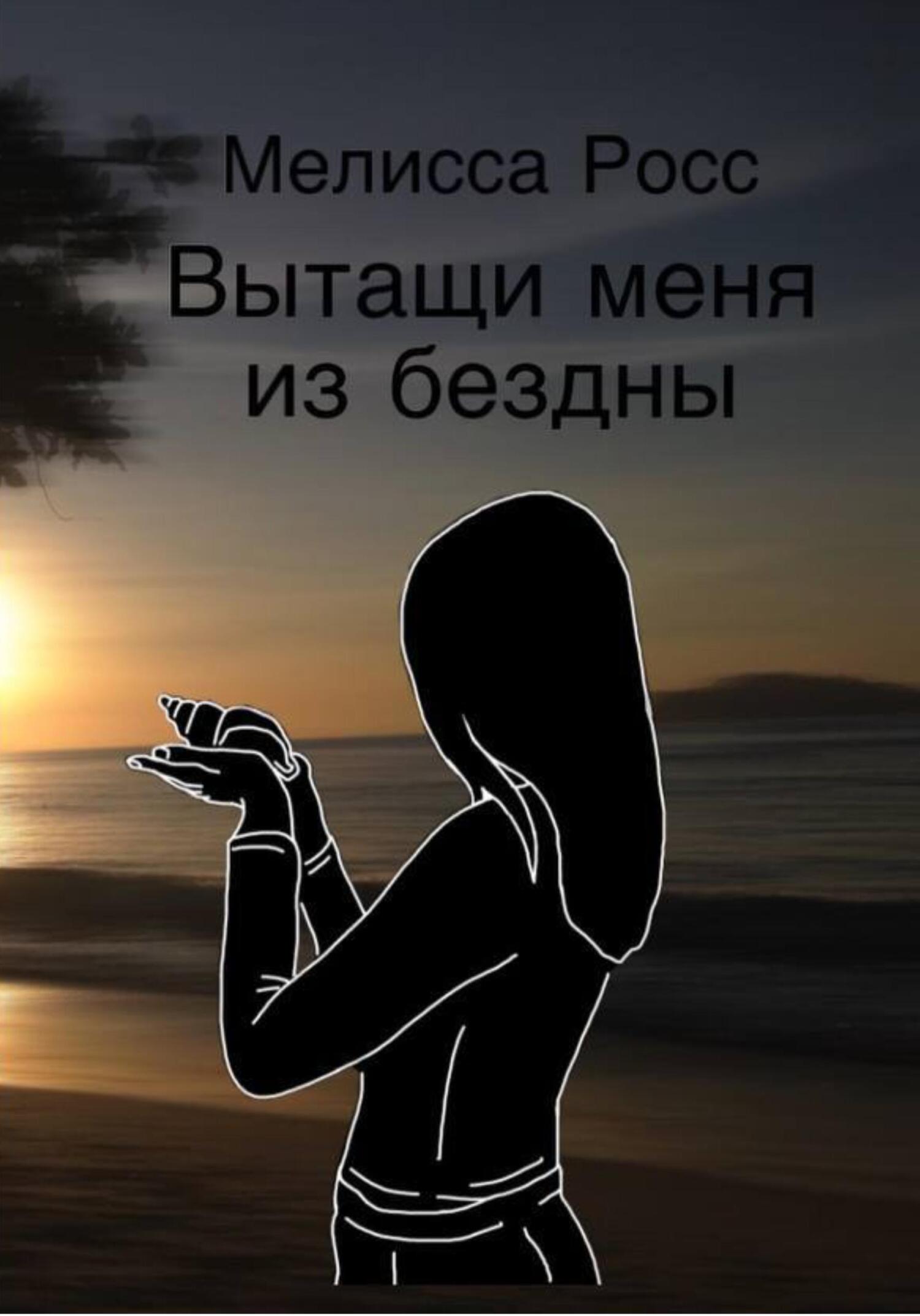я! Привязанные к одной и той же скамье галеры, скованные одной и той же цепью, мы не знали и не понимали друг друга.
То, что мы говорили, не имело человеческого смысла.
Мы ели один и тот же хлеб, пили один и тот же сидр, но не предлагали друг другу рома дружбы: каждый ревниво хранил его для себя (я тоже купил себе недурную бутылочку, чтобы избавиться от моих колик).
Я думал о товарище — жертве несчастного случая, погибшем может быть от тоски после пяти или шести лет... службы. Он, наверно, свалился сверху, в одну из бурных ночей прикрепляя лебедку или исправляя фонарь маяка и, шлепнувшись на эспланаду, тяжело подскочил с пробитой головой... если только...
— Послушайте, — прошептал я тоном человека, говорящего какую-то большую глупость, — это интересная книга, что вы читаете?
Старик поднял глаза.
— Это очень хорошая книга, — ответил он, — только трудно в ней разобраться, раз потеряешь связь.
— Так вы потеряли связь в вашей... (я чуть было не сказал „азбуке“, но прикусил язык) истории?
— Да, Малэ, потерял... однажды вечером во время бури.
Он вздохнул и прибавил:
— Он был, во всяком случае, славный парень!
Это меня совершенно ошеломило потому, что мы оба сошлись на мысли о моем мертвом предшественнике.
— A-а! Так вы могли читать и... другое в ту пору, когда был жив этот парень?
— Я читал... в его душе, а теперь пусть черт стережет ее вместо меня.
Старик положил книгу и поднял руку к потолку, делая ею какие-то знаки.
Его глаза мне показались еще больше лишенными смысла, чем обыкновенно. Этот старик утратил не только связь в своей азбуке...
— Лю-юбви-и! — вдруг совершенно неожиданно пропел он.
Затем прибавил;
— Я родом с Уессана, вот уже двадцать лет, как я стерегу Башню... Любви, башню Ар-Мен.
И он снял свою фуражку, точно приветствуя кого-то.
— Да! Да! — Бормотал я, весь охваченный ужасам. — Я не думал вас обидеть, господин Барнабас. Просто так, хочется поболтать, чтобы быть не одному в такую ужасную погоду. Впрочем, я не любопытен и не собираюсь вмешиваться в дела соседей.
Собственно говоря, мне давно бы нужно было помирать от хохота, потому что, стащив свою фуражку, старик снял и свои волосы: эта голова, белая и блестящая, как луна, произвела на меня ужасное впечатление.
Его глаза дохлой рыбы уперлись в мои и парализовали меня.
— Зачем тебе, Малэ, все шпионить за мной?
Я решил его высмеять:
— Полно, дед Барнабас, я тут ни за кем не шпионю, вы просто пьяны от ветра!
Быть пьяным от ветра это — болезнь довольно распространенная среди надзирателей маяков, особенно при начале их службы. Среди завываний ветра им начинает казаться, что их кто-то зовет с верха лестницы, снаружи, из разных углов, одним словом, — отовсюду.
— Да, — ответил он меланхолически, своим тоном ворчливой старухи, — я пьян. Однако, никто не может сравниться со мной в моем деле! Я никогда не беру отпуска, я не напиваюсь, не болтаю и почти не сплю. По всей линии огней вдоль берега нет ни одного смотрителя, который мог бы сравняться со мной, ты можешь сказать это им, нашим офицерам.
— Я думаю, что они в этом и не сомневаются, господин Барнабас. Они мне расхваливали вас; шесть месяцев тому назад, перед тем как мне явиться сюда. Нет, вы не имеете себе соперника, и это совсем не ваша вина, что парень свалился... это может завтра случиться и со мной! Мы все во власти того, кто будет.
Старик, казалось, о чем-то размышлял, затем, поглаживая светлые волосы, украшавшие его сальную фуражку, он буркнул:
— Я того мнения, что с тобой этого не случится, Малэ.
— Бог знает! Его воля!
— Бог... он умер, — возразил тот резко повернулся ко мне спиной.
— Вы собираетесь подняться?
— Да, теперь время... Я чувствую, что наверху, там, дело портится... Тебя мне не надо.
Я остался сидеть на столе, не имея сил от него оторваться. Рядом лежала фуражка, которую старик забыл надеть.
„Вот и башня, смотри!
Это башня лю-юбви-и-и“
Голос поднимался, смешиваясь с гулом ветра и становясь все глуше и глуше, точно крик девушки, которую душат на дюнах в одну из бурных ночей.
Я глядел на фуражку. Затем приподнял ее концами пальцев, изумленный ее страшно сальным видом: можно было подумать, что она сделана из куска тюленьей кожи.
С двух сторон кожаных наушников свешивались светлые пряди, прекрасные локоны блестящего шелка, несомненно очень молодые и страшно тонкие волосы.
Поворачивая во все стороны этот головной убор, я увидел, что они прикреплены к наушникам чем-то вроде кожи более нежной и более светлой, и что все локоны держатся вдоль этой кожи, пришитые к ней сальной ниткой.
— Что за нелепое изобретение! И откуда только этот старый черт раздобыл такое украшение?
Я слегка разобрал эти волосы, несколько сдвинул их с почти прозрачной кожи, напоминающей пергамент, и...
Раздался страшный треск. Маяк дрожал с низу до верху, А сверху старик орал мое имя.
— Снесло фонарь, — воскликнул я, — мы пропали!
Бросив куда попало фуражку, я кинулся на спиральную лестницу.
Фонарь не снесло, но он был на половину раскрыт с северной стороны.
Удар волны, последняя пощечина ветра или, может-быть, птица-камень, разбили толстое стекло и испортили один регулятор. Лампы тухли, обугливаясь и чадя, как факелы.
Острый дым, чернее самой ночи, захватывал нам дыхание, расстилаясь по круговому коридору и мешая нам видеть даже наши собственные руки.
— Держи это крепче! — крикнул старший, который, запустив руку в разбитую раму и обдирая кожу и тело, удерживал один всю тяжесть механизма.
Я занял его место, в то время, как он пытался зажечь фитили, поливая их горящим керосином. На этой высоте нам нечего было бояться пожара, да, кроме того, мы имели приказ скорее все сжечь, чем допустить, чтобы потух огонь.
— Не бось! Тут... Тяни! Держи крепче конец! Держи крепче все!.. — рычал старший среди ужасного рева ветра.
Понадобилось три часа, чтобы исправить механизм.
Фитили тухли несмотря на потоки пылающего керосина, брызги волн ложились на них, точно клочья мокрой материи, покрывали огонь и слепили нам глаза.
В клубах дыма носились птицы, увеличивая его густоту и хлеща нас своими крыльями со взъерошенными перьями. Я почти уже не мог удерживать то,