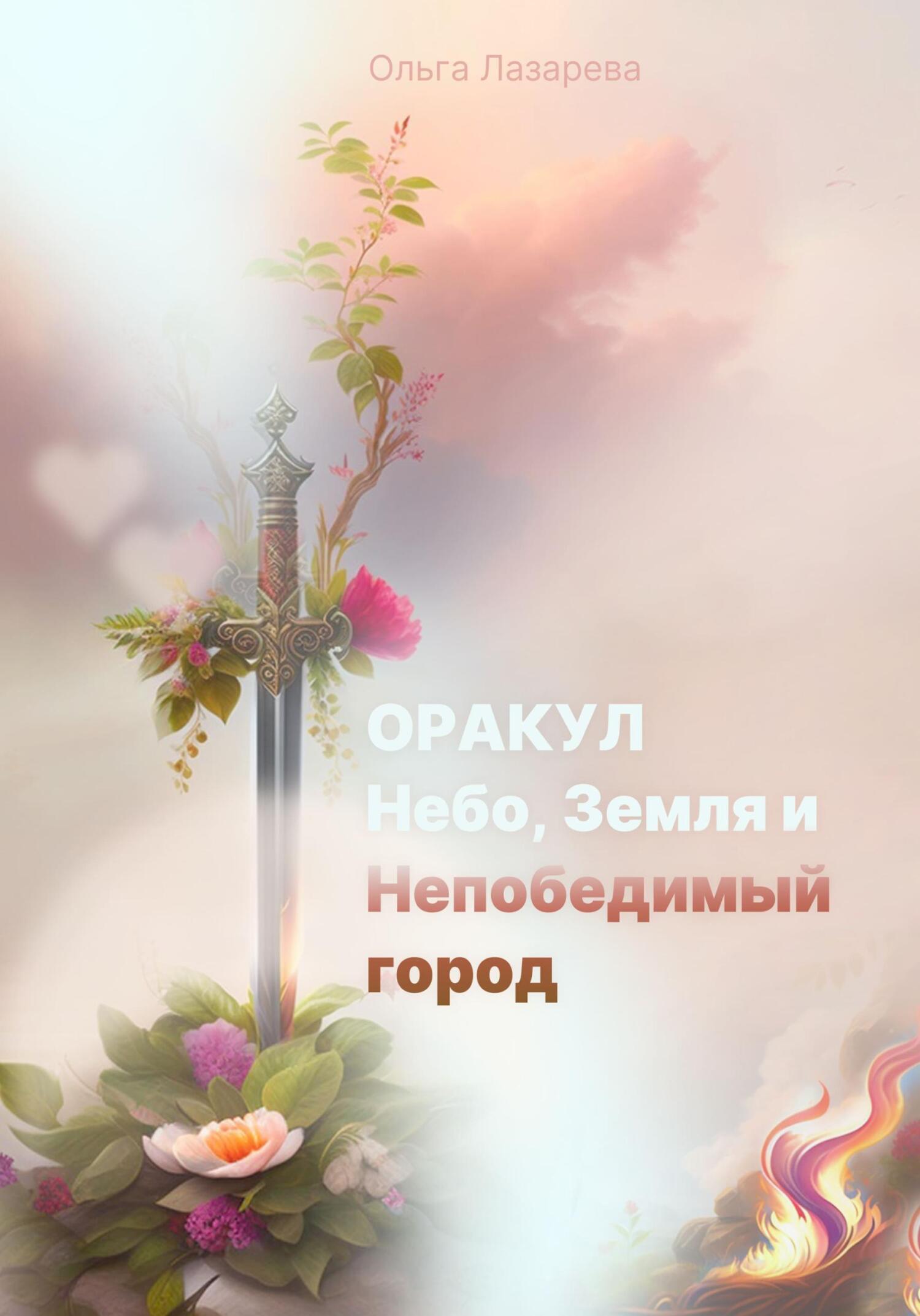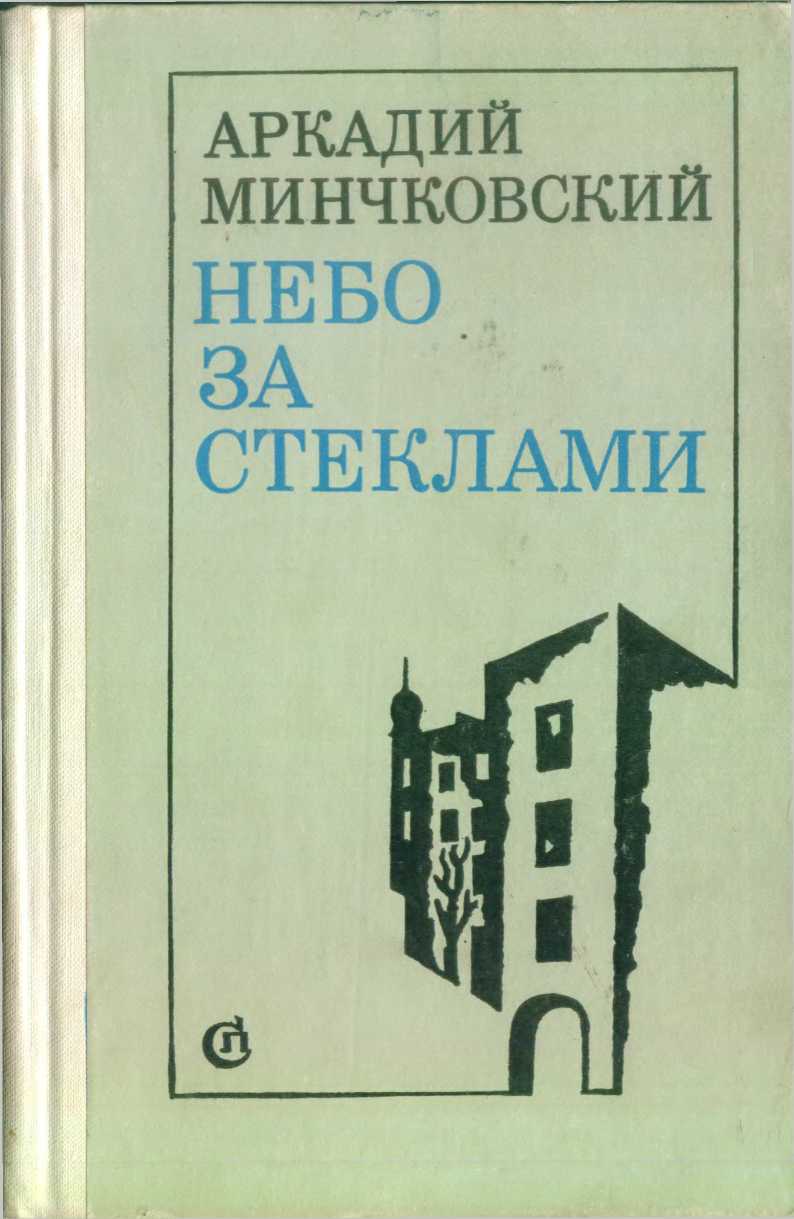и приняли, не колебнувшись, всю роту... Нестеров мог этого не знать, а мог и знать: это было при нем.
— Мог знать? — спросил отец Петр и разыскал глазами Анну, будто призывая вникнуть в серьезность диалога, какую он обрел теперь.
— Я так думаю: мог, — отозвался Кравцов.
— А вот почему? — спросил Разуневский.
Михаил понимал: в их разговорах о старом художнике пришло время сказать главное.
— Значит, «Шиповник»? — вопросил Михаил и не без труда поднял глаза на Разуневского. — Одна краска всегда опасна и в живописи, — улыбнулся он. — Есть мнение, что на Кубани Нестеров много болел, а работал мало... Быть может, это и так, хотя нельзя допустить, чтобы Нестеров не работал — второй толстовский портрет был написан у нас... Но не об этом речь. Три года, прожитые здесь, оставили свой след в сознании художника. Убежден, что здесь он увидел такое, что мог увидеть только здесь, много думал, многое понял...
— Спор, который начался в «Философах», продолжался? — спросил отец Петр.
— В какой-то мере, — сказал Михаил — мог ответить категоричнее, а избрал эту формулу: «В какой-то мере».
— Но почему Нестеров обратился к «Отроку Варфоломею»?.. Согласитесь, что без сильного религиозного чувства такого не напишешь, не так ли? Он был религиозен?
— Возможно, и религиозен, хотя в религиозность Нестерова мне еще надо поверить, и вот почему: человек религиозный под конец своей жизни становится еще более набожным, а у Нестерова было по-иному... Но, допустим, он был религиозен, допустим... Но он мог прийти к «Отроку Варфоломею» и иным путем... Каким? Чисто художническим. Художник с немалым замахом, он понимал, что должен создать собственный мир, отмеченный, если хотите, своеобразием: без этого он места под солнцем не завоюет... У меня нет сомнения, что у нас он много работал, работал, пожалуй, впрок... Как нигде, работал впрок! Не хотел сбросить мокрых холстов и отказал визитерам в приеме? Нестеров, Нестеров — очень похоже на него!.. Но как проникнуть под эти мокрые холсты и установить, над чем работал? Когда его спросили, что бы он хотел преподать молодым, он ответил: «Портрет!» Очень похоже: именно портрет... Он будто провидел грядущие годы, которые он обратил именно к портрету... Если помните, в книге его воспоминаний есть глава-чудо: Крамской! Нестеров и Крамской — не антиподы? И все-таки тут есть преемственность. Крамской, смею думать, дал работу нестеровской мысли, заставил осмыслить и переосмыслить день минувший...
— Дал понять, сколь этот день недостаточен?..
— Дал понять... в нем все время шла великая работа мысли, он был думающим художником...
— И победил... эту недостаточность? — продолжал спрашивать отец Петр и вновь разыскал глазами Анну, точно желая установить, убеждает ли это и ее.
— Хочу думать, победил, если мерой художественности признать человека, его душевное богатство. Попробуйте представить всю галерею нестеровских портретов. Никакой парадности — человечно. Короче: Нестеров всегда был бескомпромиссен, тут он нашел точную меру бескомпромиссности... А если еще короче, то надо сказать: у истоков новой поры в жизни Нестерова, ранней, самой ранней, у которой одно имя, лик человека, его душевное богатство, были годы, прожитые в наших степных местах...
— Драма... Кубани?
— Может быть, даже драма Кубани...
Михаил не мог не спросить себя: почему в их беседы вторгся Нестеров, и по какой причине его судьба так увлекла Разуневского? Верующий человек, сделавший самую эту веру сутью бытия и творчества, Нестеров вдруг стал неверующим — не лишен интереса: сам процесс ухода в неверие?.. Но применимо ли это к Нестерову?.. Был верующим и стал неверующим? Стал ли? Нет, нет, все это не то. Но что именно произошло с Нестеровым? Не пришло же ему в голову где-то на ущербе тридцатых годов писать отрока Варфоломея? Писал Шадра, Мухину, Павлова... А почему писал именно Павлова? Потому что человек — глыба, светлая голова, старейшина по всем статьям? Поэтому? А может, не только поэтому? Тогда почему? Не потому ли, что набожный? Но в нестеровских портретах Павлов иной: именно ученый, жизнелюб и земной человек, знающий свои обязательства перед людьми и полный решимости претворить их в жизнь... Захотел бы Нестеров, он мог бы изобразить Павлова и иным. Захотел бы Нестеров? Но все-таки есть она, проблема Нестерова, старого и, пожалуй, нового? Если есть, то что определяет ее смысл? И какова возможность нам, грешным, добраться до этого смысла?
Михаил приметил на комоде портрет отца, последний, что прислал он незадолго до того, как форсировали Днепр...
— Как пойдешь туда?.. — мать указала взглядом за окно — гора была там. — Один пойдешь или.... со мной?
— С тобой...
— Ну, тогда я разбужу...
Они отправились до зари.
Горы приняли их и повели. Они, эти горы, точно оградили их от шума и суеты мира, дав возможность обратиться к тому, что было их думой, заботой, быть может, самой их сутью. Все было, как прежде, и все было внове. Все было, как прежде, и все обрело значение символа. И дорога, и небо, и обелиск, который вдруг возник в облике тополя, каменного, призванного отождествить то большое, что было их отцом и что, так хотели думать они, достойно быть всеобщим горем и всеобщей памятью.
И в это мглистое утро, мглистое от тумана, что родило соприкосновение холодного поля с еще не остывшим после вчерашней жары небом, в это мглистое апрельское утро новый лик выказали не только горы, но и ты сам — обнажилось, стало видимым такое, что лежало в тебе за семью печатями.
Михаил думал: вот ты человек, обретший знания, каких, быть может, твой отец не имел, как ты отстоишь в жизни свое имя, чтобы оно сопряглось с единственным: ты сын его... Как ты это сделаешь, чтобы тебя не обуяла гордыня, чтобы ты не дал растечься силам своим, чтобы ты не выхлопотал бы себе льгот, на которые не имеешь права, чтобы труд и скромность были твоей заповедью, как они были заповедью отца и матери... Матери?
Она шла рядом, и жара, которая взялась с утра, спекла ее губы, они стали сизо-синими. Да и лицо ее точно ссохлось и стало не больше ее морщинистого кулачка, который она сжала, очевидно, от волнения. Вон как храбро она шагнула в