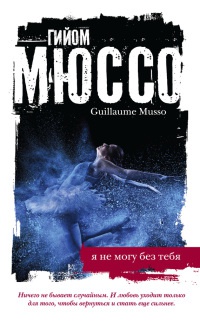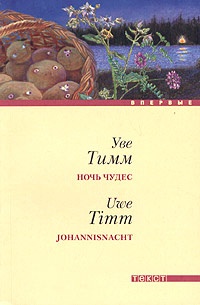— Я не писатель, я крестьянин. Ха-ха-ха! — сказал Гейр. — Но нет, почвенничество оставь себе. Меня волнует только социальный аспект, ничего больше. Ты можешь читать Лукреция и кричать «аллилуйя», можешь рассуждать о лесах в семнадцатом веке. Меня все это не колышет. Интересуют только люди.
— Помнишь картину Кифера? Лес, ты видишь только снег и деревья, красные пятна и имена немецких поэтов, написанные поверх белым? Гёльдерлин, Рильке, Фихте, Клейст. Это лучшее произведение всего послевоенного времени, а может, и всего прошлого века. Что оно изображает? Лес. О чем оно? Так это же про Аушвиц. А в чем тут связь? Оно вообще не про идеи, оно сразу проникает в глубины культуры, мыслями его выразить невозможно.
— Ты посмотрел «Шоа»?
— Нет.
— Лес, лес, лес. И лица. Лес, газ и лица.
— Картина называется «Вар», это римский полководец, если я правильно помню. Проиграл в Германии большое сражение. То есть линия тянется от семидесятых годов двадцатого века к Тациту. Шама прослеживает ее в «Лесе». Это в «Ландшафте и памяти», помнишь, я ее читал. Мы могли бы добавить сюда Одина, который вешается на дереве. Может, он его и добавил, я не помню. Но это в «Лесе».
— Я понимаю, куда ты клонишь.
— У Лукреция я читаю о роскоши мира. А это ведь барочная мысль, роскошь мира. Она умерла вместе с барокко. Внимание к вещам. Их физике. К зверям. Деревьям. Птицам. Ты недоволен, что исчезло действие. А я недоволен, что исчез мир. У нас от него остались только картинки. Мы ориентируемся на них. Но что такое апокалипсис сегодня? Деревья, которые вырубают в Южной Америке. Таяние льдов, подъем уровня воды. Если ты пишешь, чтобы вернуть смысл, я пишу, чтобы вернуть сам мир. Не мир, что окружает меня сейчас. Не социальный аспект. А как раз кунсткамеры барокко. Кабинеты диковин. И тот мир, который кроется в деревьях Кифера. Это искусство. И ничего больше.
— Картинка?
— Ты меня поймал. Картинка, да.
В дверь постучали.
— Я перезвоню, — сказал я и положил трубку. — Входи!
Линда открыла дверь.
— Ты разговариваешь по телефону? Я хотела только сказать, что пойду приму ванну. Ты не мог бы слушать, не проснулся ли кто? В смысле не сидеть в наушниках?
— Конечно! А потом ты пойдешь спать?
Она кивнула.
— Я тоже приду.
— Хорошо, — сказала она и улыбнулась, закрыла дверь.
Я снова позвонил Гейру.
— Ни черта я не знаю, короче, — сказал я и вздохнул.
— И я, — сказал он.
— Что делал вечером?
— Слушал блюзы. Получил сегодня по почте десять новых дисков. И заказал тринадцать, четырнадцать, пятнадцать новых.
— Ты больной.
— Нет, я не больной… Мама сегодня умерла.
— Что ты говоришь?!
— Умерла во сне. Зато теперь можно уже не бояться. Непонятно, правда, что в этом хорошего… Но папа раздавлен. И Одд Стейнар, естественно. Мы полетим туда на днях. Похороны через неделю. Ты вроде собирался в Сёрланн в эти дни?
— Через десять дней, я только что заказал билет.
— Может, увидимся. Думаю, мы будем еще там. Мы наверняка останемся на несколько дней.
Мы замолчали.
— Чего ты сразу не сказал? — спросил я. — Мы с тобой разговаривали полчаса, наверно. Хотел показать, что все как всегда?
— Нет. О нет. Я не бравирую, нет, просто не хочу в это погружаться. И когда я с тобой разговариваю, оно как-то отодвигается. Только поэтому и молчал. О чем тут говорить? Разговоры не помогут, сам понимаешь. И так же с блюзом. Просто способ сбежать. Не то чтобы я так переживал. Но это тоже переживание, мне кажется.
— Верно.
Когда мы разъединились, я вышел в коридор между кухней и гостиной, взял яблоко, стоя грыз его и смотрел на кухню, из которой все вышелушили. Голая стена, у которой прежде стоял кухонный гарнитур, длинные планки, приставленные к ней, пыльный пол, инструменты и провода, какие-то упакованные в пластик детали для монтажа. Ремонт продолжится еще две недели. Мы хотели только поставить посудомойку, но ее не получалось вписать в старый гарнитур, и столяр сказал, что проще поменять все целиком; так и порешили. Хозяин квартиры все оплатил.
Голос заставил меня повернуть голову.
Вроде из детской?
Я пошел заглянул к девочкам. Обе спали. Хейди на верхней кровати, положив ноги на подушку, а голову на скомканное одеяло, а Ванья на нижней, тоже поверх одеяла, разметав руки и ноги, так что получился крест. Она повернула голову на другую сторону и тут же обратно.
— Мама Му, — сказала она.
Глаза были открыты.
— Ты не спишь, Ванья? — спросил я.
Нет ответа.
Видимо, спит.
Иногда она просыпалась поздно вечером и рыдала навзрыд, причем в контакт с ней войти не удавалось, она кричала и кричала, как будто заточенная в себе самой, страшно одинокая, и не замечала нашего присутствия. Если мы брали ее на руки и прижимали к себе, она отчаянно сопротивлялась, дралась, брыкалась, требовала положить ее в кровать. Но в кровати по-прежнему бесилась и не шла на контакт. Она и не спала, но и не совсем бодрствовала. Ни там, ни тут. Сердце разрывалось смотреть на нее. Но утром она просыпалась в отличном настроении. Я так и не мог понять, помнит ли она, в каком отчаянии была ночью, или все проходило для нее как сон. Но ей точно будет приятно услышать, что она говорила во сне о Маме Му, надо будет не забыть сказать.
Я закрыл дверь в детскую и пошел в ванную, ее освещала одна трепетавшая на сквозняке от окна стеариновая свечка, стоявшая на краю ванны. В воздухе висел пар. Линда лежала с закрытыми глазами, погрузившись в воду на полголовы. Заметив меня, медленно приподнялась и села.
— Спряталась в своем гроте? — сказал я.
— Так приятно… Залезешь?
Я помотал головой.
— Так я и думала. А с кем ты разговаривал?
— С Гейром. Его мама сегодня умерла.
— Ой, горе… Как он?
— Хорошо, — сказал я.
Она прислонилась спиной к бортику ванны.
— Мы вошли в этот возраст, — сказал я. — Папа Микаэлы умер несколько месяцев как. У твоей мамы случился инфаркт. Мама Гейра умерла.
— Не говори так, — сказала Линда. — Мама проживет еще много лет. И твоя тоже.
— Возможно. Если они доживут до семидесяти, то будут жить долго. Обычно это так бывает. Но все равно скоро мы останемся старшими.
— Карл Уве! — сказала она. — Тебе еще сорока не исполнилось. А мне тридцать пять.
— Мы говорили как-то об этом с Йеппе. Он похоронил уже обоих родителей. Я сказал, что для меня самым чудовищным в этом было бы то, что не осталось свидетелей моей жизни. Он не понял, о чем я говорю. Да я и сам не уверен, что всерьез так считал. Вернее сказать, я хотел бы иметь свидетеля не своей жизни, но жизни своих детей. Чтобы мама видела, как они живут не только сейчас, пока маленькие, но и потом, когда подрастут. Чтобы она по-настоящему смогла их узнать. Понимаешь меня?