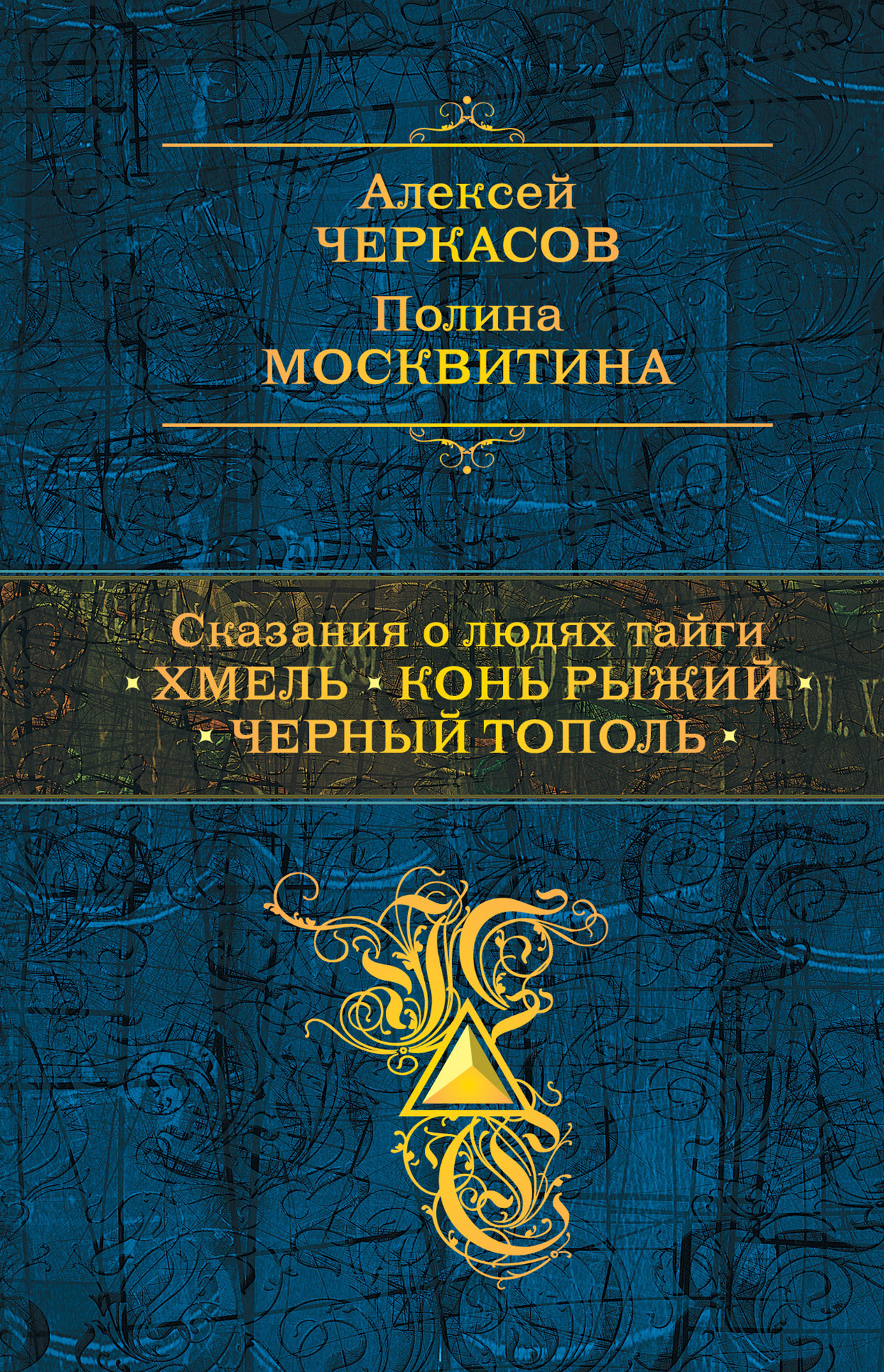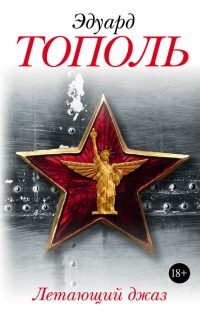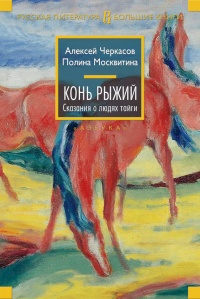и суд, вероятно, учтет ее откровенные признания, обстоятельства ее личной жизни и то, что она фактически не знала, что ее мать выполняла задания колчаковской контрразведки с июня 1918 года, с тех дней, когда Анисьи и в помине не было.
Вскоре дело Анисьи слушалось на закрытом заседании краевого суда. И опять Демид в своих показаниях защищал ее.
Анисью приговорили к восьми годам лишения свободы.
– Я не оставлю тебя, Уголек! Не оставлю.
Анисья попросила разрешения у суда проститься с Демидом…
Майор Семичастный отвернулся, когда Анисья кинулась к Демиду и долго не могла оторваться от него, рыдая безудержно и горько…
IV
За селом, на взгорье, пятнистой шкурой зверя лежали пашни, желтые по черному полю копны неубранной соломы; вокруг копен была вспахана зябь. Но вот взошло солнышко. Сперва оно прильнуло к вершинам деревьев, позолотило их, потом поползло выше, затопив деревню ярким утренним светом.
Солнышко поднималось все выше и выше.
Улицы Предивной – пустынны. Кое-где над крышами витают толстые косы дыма. Пахнет жареной картошкой, сдобными шаньгами, мясом. Воскресенье…
Недавно прошло на пастбище колхозное стадо коров. Пастух отщелкал бичом, и снова все смолкло. Один за другим плетутся колхозники к бригадным базам: еще никто не выехал в поле, кроме трактористов и комбайнеров. А ведь канун сентября! Чего бы ждать? В такую пору работать от зари до зари, прихватывая вечерние сумерки. Время-то какое! В поле – перестоялый хлеб.
Десять часов утра…
В улицах наблюдается заметное оживление. Ошалело летает по деревне Павлуха Лалетин, а на другом конце Предивнинского большака – Филя Шаров.
– Авдотья! Авдотья! – кричит Лалетин в окно крестового дома, стукая кнутовищем в раму. – Авдотья, Авдотья!..
Створка распахнулась – и высунулась черноволосая голова с маленькими, хитрыми глазками. На подоконник опустились полные груди.
– Чо орешь-то, лешак?
– Сознательность у тебя есть или нет? – зло шипит Лалетин, перегнувшись в седле к Авдотье.
– Кабы не было сознательности, на свете не жила бы.
– Нет у тебя сознательности! До каких пор, спрашиваю, напоминать тебе…
– Тсс, лешак! Катерину разбудишь!
– Катерину?! – изумился Павлуха, предав забвению вопрос о сознательности Авдотьи. – Разве Катерина приехала?
– Вечор еще. Отдыхает вот.
– Ну как она? Подобрела?
– И, кость костью, – сокрушается Авдотья. – Работа у ней вся нервенная.
– Где она работает?
– Магазином заворачивает при городе.
Глаза Павлухи округлились, как две пуговки. Весь он как-то обмяк в седле, посутулился. Вот тебе и Катька! Была здесь, метнулась в город. Прошло каких-то два года – Катерина заворачивает магазином.
– Ну ладно, пусть отдыхает. Приду, приду, – ухмыляется Павлуха, довольный приглашением Авдотьи разделить с нею радость приезда Катерины в отпуск.
Лалетин хлещет рысака и мчится к другому дому: к Хлебиным. Здесь тоже незадача: сама Хлебиха не может выйти на работу – рука развилась, не поднять, а дочь и невестка еще вечером ушли с ночевьем в тайгу брусничничать, вернутся, чай, не ранее завтрашнего дня.
А вот и дом Злобиных. Крестовый, загорелый на солнце. Здесь живет семья Михайлы Злобина, недавнего тракториста. Михайле лет двадцать пять, но он до того ленив и тяжел на подъем, что его можно только трактором вытащить на колхозное поле. В доме четверо трудоспособных: мать Михайлы, сорокапятилетняя вдова, ее дочь Таня, метящая в любой институт, сам Михайла и, наконец, жена Михайлы Гланька из фамилии Вихровых.
На стук в раму высунулся Михайла, белобрысый, полнокровный мужик.
– Ну а ты что, Михайла?
– Я-то?
– Ты-то!
Михайла невинно помигивает, улыбается.
– Сижу вот. Гланьку жду.
– Где она?
– Черт ее знает где, – зевает во весь рот Михайла. Потянулся, хрустя плечами. – А тебе что?
– Так ты же в возчики зерна назначен!
– Я! – Белесые брови Михайлы выползли на лоб, постояли там в недоумении, опустились вниз в окончательном решении: конечно, он не пойдет в возчики зерна, не с руки.
– А что тебе с руки?
– Да черт ее знает что! Рыба сейчас играет.
– Где играет? Какая рыба?
– Да в Малтате играют хариусы и ленки. Жир-ну-ущие! Вчера со Спиваком в три тони по ведру цапнули. Тебе вот котелок наложил ленков, а Гланьки нет – придет, отнесет.
Михайла отводит глаза за наличник, смотрит по улице, будто кого ищет, а Гланька меж тем, только что проснувшись, показывается за его спиной в одной нательной сорочке. Увидев Лалетина, вскрикнула:
– Павлуха! А я-то голышом. Тю, черти!
Лалетин хохочет, качаясь в седле. Михайла посмеивается своей жирной ухмылочкой. А как же ленки? Не возьмет ли Лалетин сам? Да нет, Лалетину неудобно. Пусть Гланька занесет и отдаст Марии Филимоновне – жене Лалетина, с которой он только что сошелся.
– Слушай, Павлуха, – приободрился Михаил, высунувшись до пояса в окно. – Дай мне на сегодня твою лодку и невод. У Филимона знаешь какой невод!.. Мы его пришьем к нашим – три стены будет. Весь Малтат перецедим. Тебе – пай. В натуре. Целиком.
Лалетин на мгновение задумывается, смотрит по улице – не идет ли кто, отвечает:
– Бери. Только – пусть сама Гланька. С Марусей там. Вынесет в пойму задами, а там возьмете. – И, отъезжая от окна, как бы невзначай кидает: – Придется сказать Степану, что ты и Спивак откомандировались в леспромхоз.
В двух следующих избах Лалетину повезло. В одной – только что вышли на бригадный баз, в другой – собираются и, надо думать, к двенадцати часам дня соберутся. И то дело!..
В третьей избе – Мызникова – снова осечка. Молодуха Мызниковых, Ирина, с красивым музыкальным голосом, с чернобровым, незагорелым лицом, не открыла створку окна, а вышла в ограду и за калитку, выставив навстречу Лалетину все свои женские прелести: литые, крепкие ноги, округлые бедра, покатые плечи, полную грудь, обтянутую нарядным штапельным платьем. Подперев руку в бок, она с видимым состраданием выслушала Лалетина и тихим медоточивым голосом возвестила:
– И что ты, Павлуша! Хвораю.
– Опять?!
– Что «опять»?
– Ты ж с начала уборочной хвораешь! Что у тебя?
– По женскому, Паша.
Павел опускает глаза: а Иринка меж тем, вздыхая, жалуется на фельдшера, от которого она не видит никакого проку. Так нельзя ли взять лошадь в колхозе да съездить в районную больницу?
Павлуха прекрасно понимает, что никаких «женских» или других хворей у Иринки Мызниковой нет, но, учитывая свой грешный опыт, он не кричит, будучи уверенным, что никакими судьбами он не выволок бы Иринку на колхозные поля. Чем же занимается Иринка? Вышиванием гарусом для милого Вани, муженька. Как увидит Ваня что новое у Иринки, так на руках носит. А то в поле, на уборку хлеба! Фи!..
V
Половина двенадцатого…