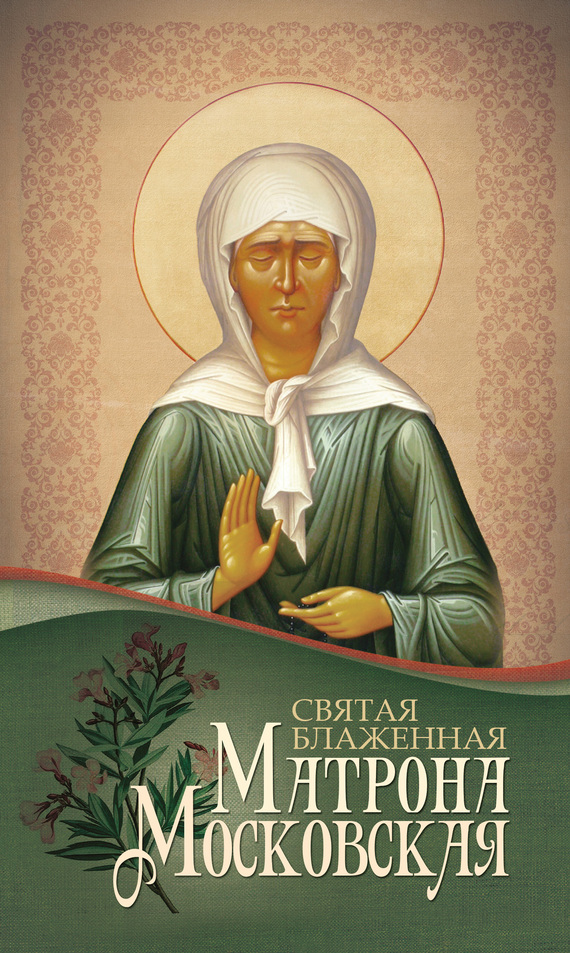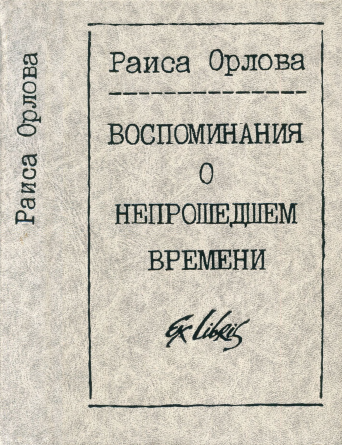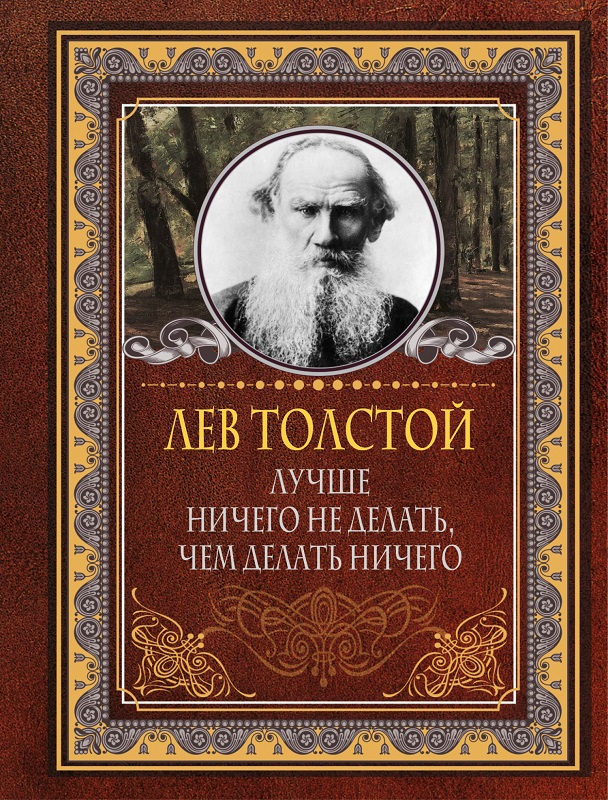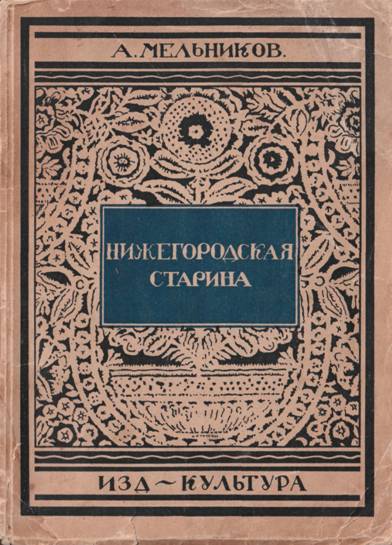петля не только во всю обширную площадь, но и за ее пределами; одни ехали вперед, близ рынка, другие назад, по линии торговых рядов, и так кружились часами. А внутри этой колоссальной петли стояли группами полицейские офицеры в серых пальто, с саблями у бедра и с револьверами на серебристых шнурах; они руководили порядком. И было их множество, этих ничего не делающих руководителей; они только рисовались перед катающимися нарядными дамами да покручивали усы.
На следующий день, в вербное воскресенье, к вечеру рынок кончался; увозились куда-то остатки товаров, ломались и разбирались ларьки, подметалась замусоренная площадь, и наступало предпраздничное затишье с самыми строгими великопостными днями последней, страстной недели. Но это затишье было только видимостью; на самом же деле везде кипела работа перед наступлением пасхи, и чем ближе к концу, тем яростней хлопотали люди, наполняя товарами магазины, заготовляя пышные куличи и творожные сладкие пасхи, окрашивая вареные яйца фуксином и отваром луковой шелухи в разные цвета либо яркими обрезками шелка делая их скорлупу пестрой.
На Девичьем поле ремонтировались спешно балаганы, малевались новые громадные плакаты к новым представлениям, приуроченным к сезону. В Охотном ряду в бесчисленные лавки и хранилища свозились сотни свиных туш, окороков, битых индеек, гусей, цыплят; в подвалах еле поспевали опоражнивать винные бочки; в торговых оранжереях была давка от покупателей; цветущие махровые сирени, тюльпаны, розы, гиацинты и ландыши дня за два до праздника в изобилии разносились в корзинах подарками по Москве, дразня внимание тех, у кого не хватало денег на такие покупки и подношения.
Не ежегодно, но все же нередко, на пасхальной неделе открывалась в громаднейшем помещении манежа очаровательная цветочная выставка. Садоводы старались перещеголять друг друга и действительно устраивали то, о чем с удовольствием вспоминается даже через полвека. Колоссальная манежная внутренняя площадь бывала вся в цветах и клумбах, в декоративных растениях, благоухающая тонкими разнообразными ароматами. А так как это бывало в раннюю пору весны, когда на улицах иногда лежал еще грязный и мокрый тающий снег, то впечатление от этого необычайного громаднейшего цветника бывало радостным.
Приблизительно в эти же числа или около этих дней, глядя по ходу весны, вскрывались реки, начинал двигаться лед, и Москва-река вздувалась, пухла, воды ее подходили к границам набережной. Толпы москвичей ходили любоваться половодьем и с интересом отмечали: остается два камня до уровня, остается один камень, и, наконец, река в более низких местах выливалась на улицу, затопляя тротуары и мостовые, и двигалась дальше. Бывали года, когда полая вода доходила чуть не до Третьяковской галереи. А отводный канал, или попросту называемая — «Канава», — от Малого Каменного моста до Зацепы, выходила из берегов каждый год и затопляла многие прилегающие переулки, доходила иной раз до Татарской улицы, и жители, чтобы достать себе в эти дни пропитание, снимали с петель ворота и, подпираясь шестами, ездили по этим переулкам, как на плотах, за покупками хлеба и продуктов, с веселыми песнями, шутками и прибаутками, ничего не боясь и радуясь, что в эти недолгие дни нигде не торчат полицейские «городовые» и никому не мешают наслаждаться «гражданской свободой».
Между прочим, наименование этих полицейских «городовых» москвичи шутливо относили к нечистой силе, считая, что в лесу есть леший, в воде — водяной, в доме — домовой, а в городе — городовой.
X
После весенних праздников невольно вспоминается и осенний — лошадиный праздник.
На Зацепе, на просторной площади, стоял большой храм имени Флора и Лавра,* которым приписывалось покровительство над конями. И вот ежегодно, в половине августа, если не ошибаюсь — 18-го числа, вся эта большая площадь перед церковью заполнялась сотнями лошадей. Тут и гладкие купеческие рысаки, и тяжеловозы-першероны, и изможденные непосильной кладью ломовые, и извозчичьи клячи с вытертой по бокам шерстью и облезлыми хвостами, и красивые верховые кони из манежей и цирка.
Большинство парадно украшены тряпичными цветами в гривах, яркими лентами, вплетенными в хвосты. Их держат под уздцы нарядные конюхи и кучера в ожидании молебна, который совершался торжественно на площади по окончании праздничной обедни. После молебна священник кропил водой толпу и коней, высоко поднимая руку с волосяным веничком, с которого брызгали капли воды на головы собравшихся. В ответ на хоровые гимны с площади неслись громкое ржание, стук нетерпеливых копыт о камни мостовой и многочисленные добродушные возгласы:
— Тпрруу!.. Тпрруу!..
И этот лошадиный праздник совершался ежегодно, после чего конская «демократия» угонялась на обычную работу, а на площади происходил парад «аристократии» — гладких рысаков в упряжке, и гарцевание верховых коней.
В заключение участники праздника разбредались, в различных классовых группировках, по трактирам — скромно говоря — «чай пить».
XI
Когда начинаешь вспоминать о прежней Москве с своего раннего детства, то ясно видишь, как менялась мало-помалу и до какой степени изменилась вся жизнь людей, как отмирали и отмерли старые обычаи, привычки, верования, старый быт и даже исчезли многие слова из обихода.
Такого движения на улицах, какое наблюдается сейчас, и в помине не было даже в центре города, а другие улицы были тихие, спокойные — особенно в Замоскворечье, где прошло мое детство и ранняя юность.
Бывало, посредине улицы ходили разносчики и громкими голосами выкрикивали о своих товарах, немножко нараспев. У всякого товара был свой определенный мотив, или «голос». Кто и когда узаконил эти мотивы — неведомо, но они соблюдались в точности в течение долгих лет, так что по одному выкрику, даже не вслушиваясь в слова, можно было безошибочно знать, с каким товаром идет разносчик или едет в телеге крестьянин, продавая либо молоко, либо клюкву, лук, картошку, либо уголь, или бредет, не торопясь, с мешком за плечами старьевщик, скупающий всякий хлам, обноски, скарб — то, что в старину называлось «бо̀рошень», идет и покрикивает, но непременно скрипучим голосом: «Старья сапог, старого платья — нет ли продавать!..»
Крестьяне приезжали в город со своими товарами обычно в деревенских черных «цилиндрах», — а картузов еще не носили; шляпы эти делались почти без полей, похожие на небольшие ведра, из какого-то домашнего материала вроде легкого войлока. Сидя на соломе или на сене в телеге и проезжая шагом по улице, крестьяне взывали громкими голосами и тоже на свой особый лад, — у всех у них одинаковый:
— Млака́, млака́, млака̀!.. — Или: — По́-клюкву! По̀-клюкву!..
Ходили также мороженщики с кадушками на голове. В кадушках навален кусками лед, а во льду вкопаны две большие жестяные банки с крышками, в одной сливочное, в