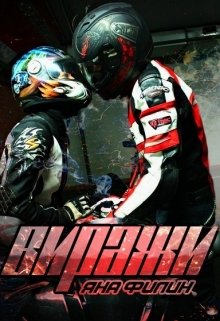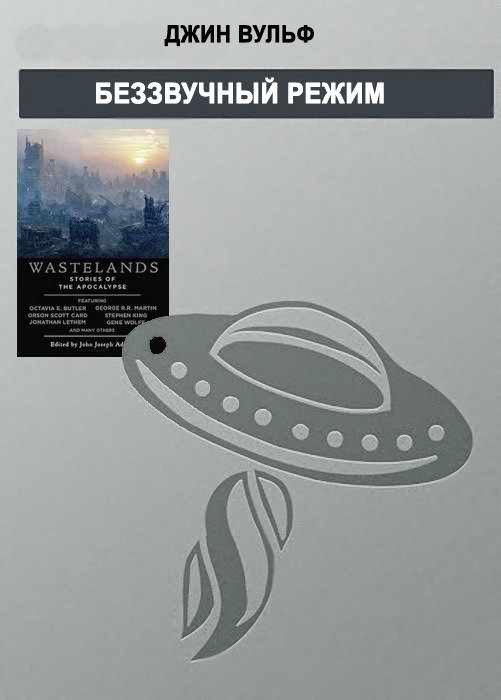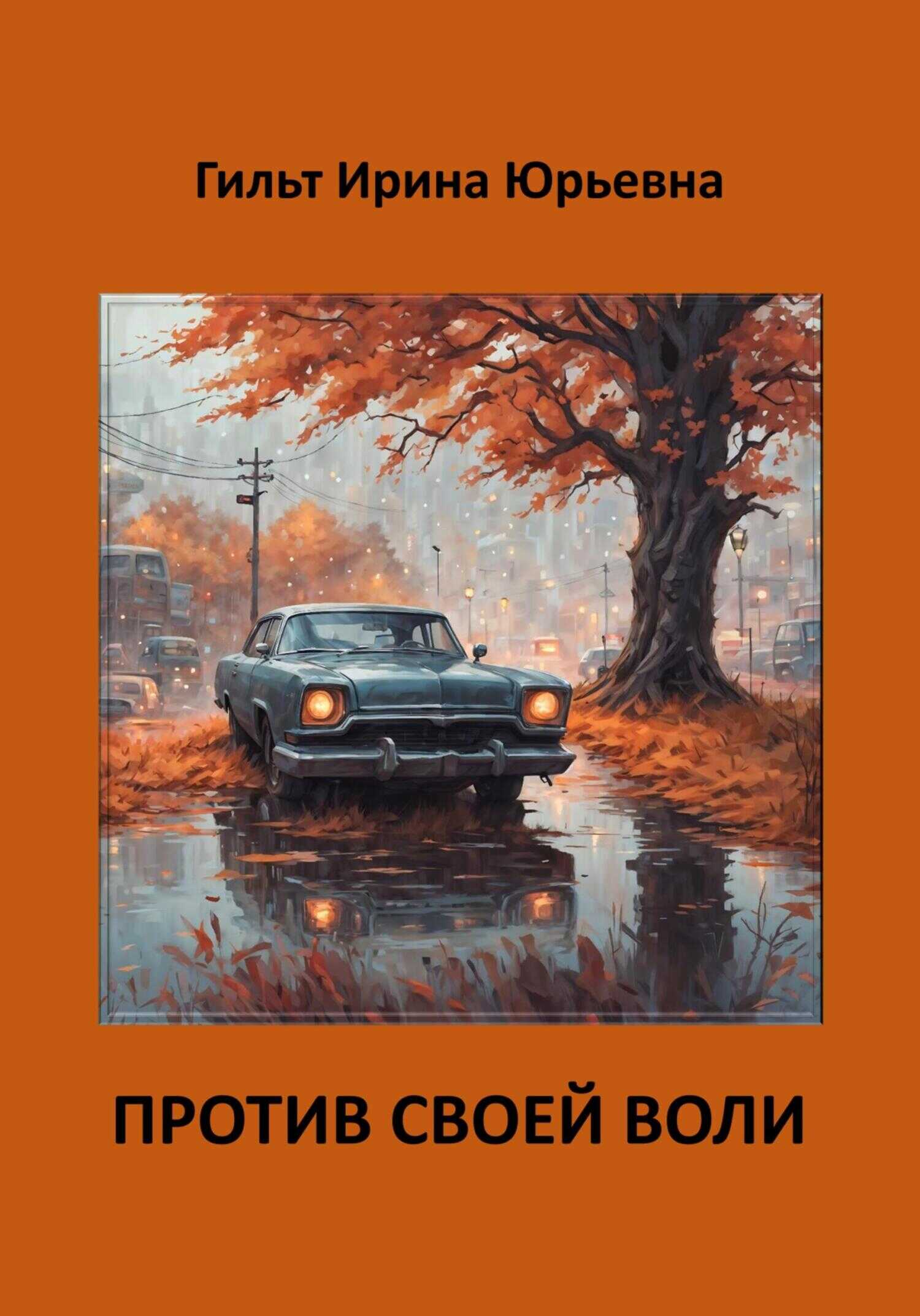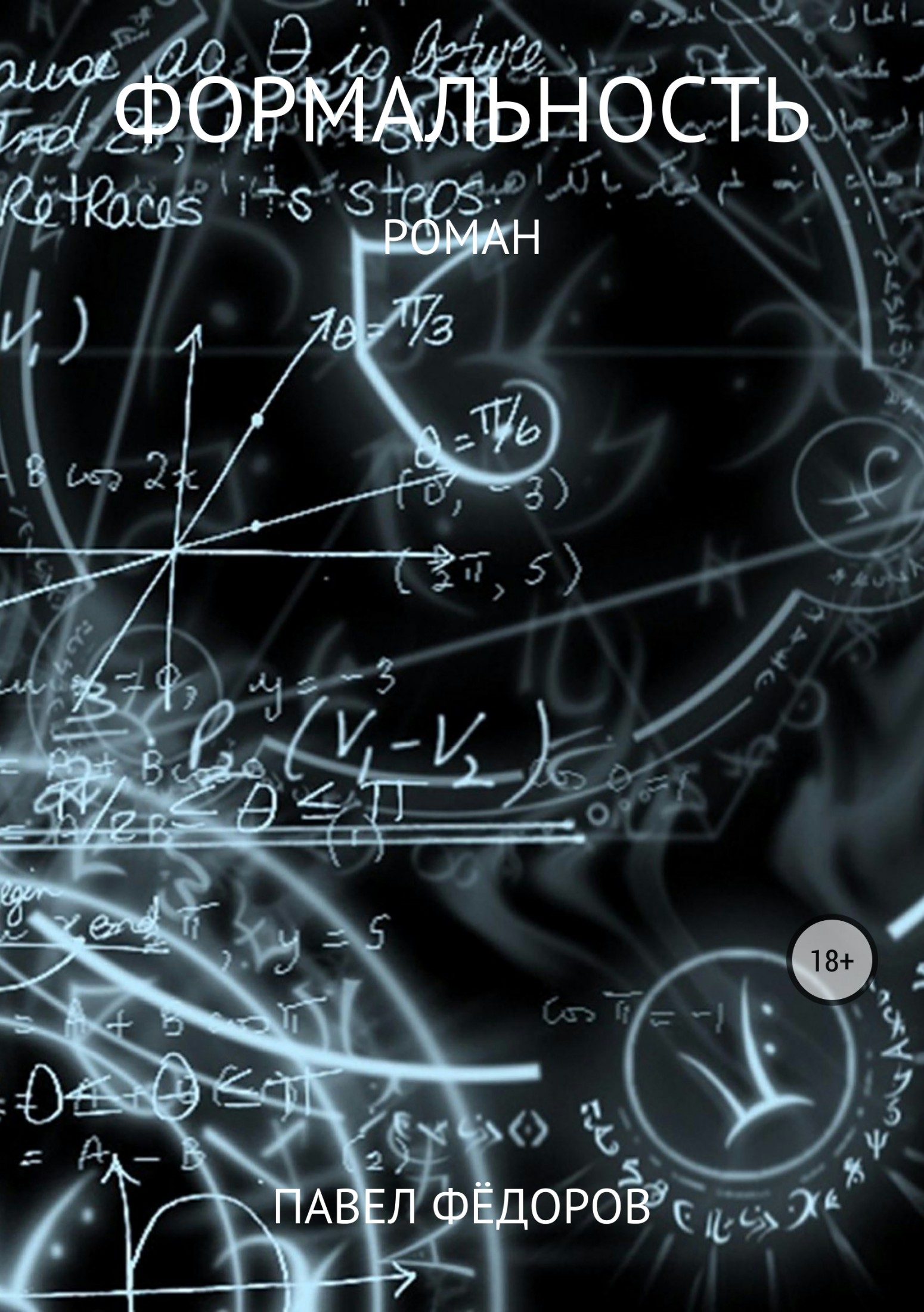и посмотрел на свои руки.
Чашка прыгала в них, как сумасшедшая, и он вдруг улыбнулся, не смущенно, а даже, пожалуй, весело; и я неожиданно поняла, что ему всё это нравится: и прогулка с ружьями, и незнакомые «черти с калашами», осторожные разговоры посреди озера и даже собственный страх. На контрасте с усталыми, измученными остальными Лёня – толстый, шумный Лёня со своими плоскими шутками и пижонскими замашками в самом деле получает удовольствие. Да что там. Он в восторге.
– Вот какое дело… – сказал Лёня тем временем, и нагнувшись, поставил чашку на пол, возле своих ног, а потом повторил задумчиво:
– Вот какое дело… Они ни черта нам не отдадут. Ни еды, ни лекарств, ни топлива – ни-чер-та, – и обвел нас взглядом, явно смакуя тишину и выражения наших лиц.
Видно было, что Сережа собирается что-то возразить ему, но он только поднял предостерегающе широкую, всё ещё слегка прыгающую ладонь и добавил:
– Я не говорю, что они так сказали. Я говорю, что я понял. Они сказали: мол, загрузили тела в «шишигу» и отогнали подальше. А остальное барахло, сказали, вынесли на улицу и сожгли. Барахло. Только одежка на них не очень по размеру, а?
– Да ладно тебе, – хмуро отозвался Серёжа. – Он же вроде сказал, они погранцы, как Семеныч.
Лёня вдруг хихикнул – радостно, торжествующе, словно ждал именно этого возражения, а потом откинулся назад на скрипучей кровати и сложил руки на животе.
– Как они держали автоматы, видел? – спросил он, всё еще улыбаясь. – Да ладно тебе. Ну какие из них погранцы. Они вообще не военные. Это зеки, Серега. Может, я и не прав, просто разговор у них такой… в общем, я почти уверен, это зеки. У них никого с собой нет – ни семей, никого, только они трое. И если мы хотим хоть что-нибудь получить с того берега. Это если они сами, конечно, от заразы там не помрут. Нам придется их перебить.
6
Не случилось ни того, ни другого. Видимо, нашим новым соседям просто не суждено было погибнуть ни от смертельно опасной зараженной среды, в которую они так беспечно вломились, ни, тем более, от нашей руки. Всю следующую неделю они деловито, весело копошились на том берегу, приводя в порядок своё новое хозяйство. Оказалось, что усевшись на невысокой крыше нашего дома с биноклем в руке, всё-таки можно разглядеть и широкие просторные избы, и пространство перед ними, и даже то место у самой кромки леса, где мы спрятали наши бесполезные теперь машины. Так что в свободное от рыбной ловли время кто-нибудь – чаще папа и Мишка, но иногда и остальные – бывало, и по нескольку раз в день взбирались теперь наверх по шаткой деревянной лестнице, чтобы вернувшись, рассказать нам новости. Жгут матрасы и постельное белье, говорил вернувшийся с крыши наблюдатель. Или: ковыряются с сетями, непохоже, чтобы они были опытные рыбаки. В один из таких дней Мишка скатился с лестницы поспешно, с грохотом, едва не поломав хлипкие, косо прибитые ступеньки, и распахнув настежь входную дверь, возбужденно крикнул прямо с порога:
– Снегоход! У них снегоход!..
А чуть позже мы смогли убедиться в этом сами, потому что трое незнакомых мужчин, поселившихся теперь в двух километрах от нас, буквально на следующий же день принялись разъезжать на этом снегоходе по озеру открыто, и как оказалось, совершенно бесцельно, просто для забавы, нисколько не прячась от наших глаз. Один сидел за рулем, второй обычно стоял у него за спиной, а третий шёл пешком, то и дело останавливаясь, пока двое ездоков нарезали вокруг него залихватские круги, вздымая клубы белесой снежной пыли.
– Это ж сколько у них бензина, у говнюков, – с яростным сожалением, зло сказал папа, наблюдая за этими нарочитыми, бессмысленными, бесшабашными играми. – Где ж они его взяли, хотел бы я знать.
У них был не только бензин. У них теперь было всё, о чём мы могли только мечтать. Два, целых два огромных просторных дома, набитых полезными, незаменимыми вещами. У них были консервы и крупы, варенье и сахар, и оставшееся от погибших пограничников оружие, и прекрасные, надежные военные респираторы. И самые разнообразные рыболовные снасти, которые были им даже не нужны, потому что мы ни разу – ни разу – не видели, чтобы они ставили сети, им просто незачем было ловить эту проклятую, тощую зимнюю рыбу. Им вообще ничего не нужно было делать, потому что наследство, свалившееся на них нечестно, несправедливо, случайно, обеспечило им верных несколько месяцев беззаботной сытой жизни, за которой мы наблюдали на расстоянии, завистливо и горько, проклиная себя за нерешительность, потому что только теперь нам стало ясно, какую бездарную, глупую, роковую ошибку мы совершили. Ведь достаточно было подождать неделю, максимум – две, а после мы просто обязаны были задушить в себе этот унизительный, тошнотворный, суеверный страх и пойти на тот берег, и взять всё, что было так необходимо и нам, и детям – недоступное теперь и чужое, не наше.
На третий, кажется, день они зажарили козу. Я не знаю, как она умудрилась выжить в остывшем нетопленом доме, после того, как его обитатели умерли и перестали ухаживать за ней, доить ее, следить за тем, чтобы у нее была вода и пища. Я вовсе ничего не знала о козах; никто из нас не знал. С крыши был виден только бесславный финал, легкомысленный шашлык, увенчавший её короткую и бессмысленную жизнь. Им не было нужно ее молоко – к чему оно трём взрослым мужикам, питавшимся тушенкой и макаронами из бездонных, щедрых, буквально свалившихся им на голову запасов? Им не хотелось возиться с ней. Она была для них просто мясом, занятным разнообразием в рационе. Спустившись с крыши, Серёжа сказал только: «козу жарят», и хотя мы ни разу её не видели, не имели ни малейшего представления о том, пёстрая она или белая, сердитая или дружелюбная, все мы разом представили себе её освежёванную, насаженную на вертел осквернённую тушку, и невозможно было не чувствовать горечи и бессильного сожаления, потому что мы, конечно, отнеслись бы к ней, к этой безымянной козе, совершенно иначе. Просто нам не предложили такого выбора.
Несмотря на всё это, мы ничего им не сделали. Мы даже не строили таких планов, невзирая на Лёнино незнакомое, неприятное и пожалуй, пугающее оживление, с которым он нет-нет,