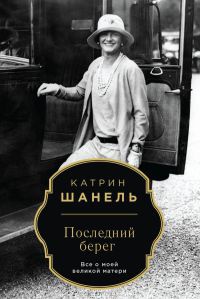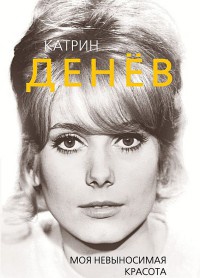Ознакомительная версия. Доступно 31 страниц из 151
Канзас горел, Убийца Пауни и другие враждебные индейцы сиу и шайенна убили более двух сотен белых, включая многих женщин и детей, в районе, который я должен был контролировать в ходе моей первой командировки на Запад, а мои кавалеристы убили к тому времени всего лишь двух краснокожих, и сделали это ребята из отряда Киддера, пока их не прикончили.
Поэтому я отменил предполагавшуюся кампанию и, снарядив в течение пятидесяти пяти часов сотню конников, отправился в путь за сто пятьдесят миль. Отставших не дожидались, их убивали воины Убийцы Пауни, но я не возвращался, чтобы захоронить мертвых или преследовать индейцев. Я мог думать только о тебе. 18 июля я добрался до Форт-Хайеса и оставил там девяносто четырех из моих людей. Я взял с собой только моего брата Тома, двух офицеров и двух солдат, и мы отправились за шестьдесят миль в Форт-Харкер, добравшись туда меньше чем за двенадцать часов. Там я оставил Тома и четырех своих людей и трехчасовым поездом отправился в Форт-Райли, где — я молился об этом Господу — ты ждала меня в относительной безопасности.
Ты помнишь ту нашу встречу, моя дорогая?
Ты оказалась дома, ходила из угла в угол, и на тебе было то зеленое платье, которое я похвалил месяц назад в Форт-Хайесе. Ты потом писала мне, что мое явление, когда я распахнул дверь и вошел в комнату, было ярче жаркого канзасского солнца: «И вот передо мной счастливый и жизнерадостный стоял мой муж!» — ты сказала мне позднее, что написала это в письме своей мачехе, но ты не сообщила дорогой супруге номер два судьи Бекон, что, да, я выглядел счастливым и жизнерадостным, но еще и самым очевидным образом вожделел к тебе, мой орган был напряжен и прям и требовал, чтобы его скорейшим образом пустили в дело, потому что прошло время сабли в ножнах, бьющей меня по ноге, и наступило его время.
Ты помнишь, моя дорогая, как я — все еще пыльный после скачки и железной дороги — распахнул дверь, подхватил тебя, отнес на кровать, покрыл тебя поцелуями, неловко расстегивая на тебе одежды, пока ты расстегивала пуговицы на моем мундире, как потом ты расшнуровала свой корсет и опустила верхнюю часть платья, а я срывал с тебя нижние юбки и панталоны. Ты помнишь, как мои шпоры стукнулись об изножье кровати (которую с таким трудом доставили в Форт-Райли), когда ты уложила меня на спину, уселась на меня, как я мог бы запрыгнуть на Вика, ухватила меня своей алчущей рукой и направила в себя.
Ты, наверное, помнишь, что мы кончили в считаные секунды (возможно, наши крики отвлекли внимание часовых на вышках), но, как и было заведено между нами с самого медового месяца, через несколько минут мы начали все сначала, срывая с себя те одежды, что еще на нас оставались, не переставая гладить, ласкать, целовать и лизать друг друга.
Я знаю, что потом, после второго любовного приступа, уснул; уснул в первый раз за пять нелегких дней пути, оставив позади пятьсот миль, но два часа спустя ты разбудила меня. Ты распорядилась, чтобы дневальные и солдаты натаскали ведрами горячей воды, и они, стараясь не шуметь, на цыпочках в своих высоких ботинках проходили мимо меня, а я храпел на кровати, лежа голым под легкой простыней (моя одежда в беспорядке валялась на полу, а тебе было наплевать, что они могут подумать по этому поводу), и когда я проснулся, занавески были задернуты, а ты голая стояла у кровати и манила меня в ванную.
Ах, эта роскошь ванны на когтистых львиных лапах в том дворце, каким стала для меня квартира для приезжающих погостить жен старших офицеров в Форт-Райли.
Нам пришлось тем же вечером уехать поездом, взять твою служанку Элизу и забрать кухонную плиту назад в Форт-Харкер, чтобы потом отправиться в долгий путь верхом и в фургоне в Форт-Уоллас, но тот час в горячей ванне… Ты помнишь, моя Либби, моя дорогая? Ты помнишь, как в этом пару прижималась ко мне спиной, а я держал в ладонях твои прекрасные груди и целовал твою прекрасную шею, и твои красивые ушки, и твои чудные губы, потом целовал тебя снова, когда ты вывернула голову, чтобы твои губы могли найти меня и чтобы ты могла развернуться и упасть на меня, а твоя рука ушла под воду, чтобы снова меня найти?
Ах, моя дорогая Либби… я помню мой язык в твоей сладкой киске, твой алчущий рот на моем естестве. В тот день мы восемь раз занимались любовью, и ты кончила десять раз, и мы оба не забывали, даже в нашей страсти и радости, что впереди нас ждут долгие дни трудного пути, когда мы не сможем уединиться хотя бы для того, чтобы обменяться поцелуем. Я помню, когда мы впопыхах одевались, чтобы засвидетельствовать почтение командиру, а потом мчаться с Элизой, сундуками и плитой на станцию (Элиза перед этим выстирала и отгладила мою грязную одежду, пока мы с тобой были еще наедине и голыми; она к этому привыкла), и я принялся застегивать ширинку, а ты в одном корсете, с еще влажными волосами на лобке, остановила мою руку, а потом опустилась на колени в последний раз…
Ты помнишь, моя дорогая, что по возвращении я был предан военно-полевому суду за то, что, среди прочих проступков, оставил свой пост. На год меня отстранили от командования, я не получал жалованья и был понижен в звании. Я готов тысячу раз быть преданным военно-полевому суду и тысячу раз быть отстраненным ради тебя, моя любимая. Но ты знаешь это. Ты всегда это знала.
Ты нужна мне, Либби. Я не знаю, где я. Здесь темно, темно и холодно. Я слышу звуки и голоса, но они такие приглушенные и, кажется, доносятся из какого-то очень далекого далека. Никак не могу вспомнить последние часы, дни, минуты, наш марш, индейцев, какая у нас произошла схватка… Я не помню почти ничего, кроме той абсолютной реальности, которая есть ты, моя любимая.
Говоря по правде, моя любовь, я не могу вспомнить, где я был и что случилось. Могу предположить, что меня ранили, может быть, серьезно, но я, похоже, не в состоянии прийти в себя настолько, чтобы понять, цело ли мое тело, на месте ли мои конечности. Иногда я слышу поблизости человеческие голоса, но никак не могу понять, что они там говорят. Может быть, я в каком-то госпитале, где есть немецкие сиделки? Я знаю только одно: я здесь, в этой коматозной темноте, все еще сохранил разум и мои воспоминания о тебе и о нашей любви. Надеюсь, это всего лишь солнечный удар или сотрясение мозга и скоро я в полной мере приду в сознание.
Ты же не хочешь, чтобы твой Оти[16]оказался искалеченным, чтобы стройное тело твоего красивого мальчика покрылось шрамами или лишилось нужных частей. Я обещал тебе… Я обещал тебе, покидая Форт-Линкольн… я всегда обещал тебе: во время войны, перед каждой кампанией здесь, на равнинах, — что я вернусь и мы навечно, навечно, навечно останемся вместе.
Ах, Либби… Либби, моя дорогая… моя любимая девочка, моя золотая жена. Моя любовь. Моя жизнь.
6 На Шести Пращурах
Август 1936 г.
Пятьсот шесть ступенек.
Паха Сапа останавливается у основания лестницы и окидывает взглядом пятьсот шесть ступенек, которые ему предстоит преодолеть. Это все те же пятьсот шесть ступенек, по которым он поднимался почти каждый рабочий день в течение последних пяти лет. Сейчас шесть часов сорок пять минут утра (21 августа, пятница), и солнце уже нагрело воздух в долине до такой же степени, что и здесь — на Черных холмах. Воздух полнится стрекотанием кузнечиков и сладковатым запахом разогретой желтой сосны. Сегодня пятница, и Паха Сапа знает, что бригада, которая спустится сегодня вечером сверху, будет играть в привычную игру «горный козел»; пятьсот шесть ступенек разделены на наклонные пролеты, их насчитывается около сорока пяти, между ними горизонтальные площадки, а суть игры состоит в том, что веселящиеся работяги будут прыгать с площадки на площадку, как горные козлы, стараясь не касаться пятидесяти или около того ступенек между ними. Паха Сапа знает, что пока это никому не удавалось, но никто еще шеи или ног тоже не сломал, так что козлиная игра состоится и в конце сегодняшнего длинного рабочего дня, дикие прыжки будут сопровождаться криками и улюлюканьем усталых бурильщиков, лебедочников, шахтеров и взрывников, уходящих на выходные.
Ознакомительная версия. Доступно 31 страниц из 151