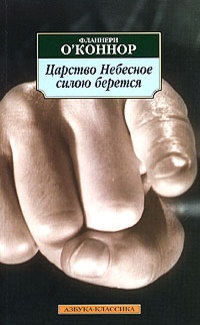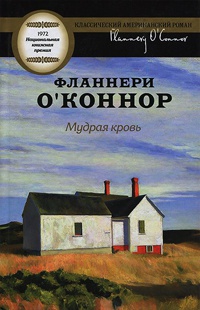– нужно как минимум три сенсорных штриха, чтобы объект реализовался – увязывая это с наличием у нас пяти чувств. Если у тебя в прозе нет хотя бы одного из них, ты калека. Но если у вас отсутствуют два или более, вы практически ничто.
Каждую фразу «Мадам Бовари» можно разбирать, восторгаясь ей, но я всегда завороженно замирая перед одним пассажем. Флобер только что показал нам Эмму за фортепиано, когда ею любуется Шарль. И вот как он пишет:
«Эмма с апломбом барабанила по клавишам, без остановки пробегала сверху вниз всю клавиатуру. Старый инструмент с дребезжащими струнами гремел в открытое окно на всю деревню, и часто писарь судебного пристава, проходя по дороге без шапки, в шлёпанцах, с листом в руках, останавливался послушать» [44].
Чем внимательнее вчитываешься в предложение, тем больше ты из него можешь узнать. На одном конце «авансцены» мы слышим грохот старого инструмента, а на другом отчётливо видим фигуру писаря, даже его тапочки. С учётом того, что на страницах романа происходит с Эммою далее [45], можно подумать, что несущественно, дряблые ли струны у пианино, какая обувь на ногах чиновника и бумага в его руке, но Флобер должен окружить героиню правдоподобием деревенского быта. Нужно постоянно помнить, что те самые «грандиозные идеи» и хлёсткие эмоции важны для автора в куда меньшей степени, они могут и подождать. Во что обуть писаря – вот в чём вопрос.
Кое‐кто из нынешних, конечно, учится этому, чтобы злоупотреблять. Потому и зашёл в тупик дотошный натурализм. В сугубо натуралистическом тексте деталь присутствует для полноты реальности, а не потому, что этого требует сам текст. Создавая вещь, можно писать максимально точно, не впадая в натурализм ни на йоту. Творчество избирательно, и достоверно оно в самом важном, что и оживляет текст.
Накопление деталей на страницах романа происходит не так стремительно, как в коротком рассказе. Новелла требует большей решительности, потому что рассказ меньше по объёму. Её детали должны быть приметны с первого взгляда. В качественной прозе смысл деталей подпитывается самим сюжетом, и если это удаётся, они действуют как символы.
Части современных людей слово «символ» внушает не меньший страх, чем слово «искусство». Видимо, в символе им видится что‐то мистическое, некий масонский пароль, внедрённый автором в текст произвольно для оповещения посвящённых. Похоже, они видят в символе способ сообщить что‐то между строк, и если им всё же придётся читать якобы «символическое» сочинение, они станут решать его как задачу по алгебре. С иксом. И когда они‐таки найдут этот абстрактный «икс», или убедят себя, в том, что они его нашли, тогда‐то они и выдохнут с натужным восторгом, дескать, «разобрались». Многие учащиеся путают: понимать для них значит то же, что понять.
Для самого автора, как мне кажется, используемые им символы – нечто в порядке вещей. Можно возразить, что детали, занимая существенное место, работают как в глубине, так и на поверхности, здорово поддерживая сюжет на всех уровнях. По‐моему, книгу читают, чтобы узнать, что происходит, но в хорошем романе происходит больше, чем мы улавливаем, сразу видно не всё. Внешние детали подводят читателя к более глубинному смыслу символов. Именно это имеют в виду критики, когда говорят, что роман работает на нескольких уровнях. Чем подлинней символ, тем глубже его смысл, тем шире его трактовка. Возьмём для примера мою «Мудрую кровь» [46]. Для героя этой книги его авто серого цвета, это и трибуна, и катафалк, а при случае, как ему кажется – просто «агрегат», позволяющий «смыться». Насчёт последнего он, конечно, заблуждается, поскольку «смыться» у него выйдет на деле, только когда патрульный решит уничтожить авто. Этот автомобиль символизирует мёртвое в живом, а слепота его владельца – живое в мёртвом. Оба смысла имеют значение в этой истории. Читатель может их не разглядеть, но они всё равно на него воздействуют.
Таким способом современный романист прячет свою тему, как подводную часть айсберга.
Такой подход, необходимый автору, чтобы сделать свой опус значительнее, именуют анагогическим, то есть позволяющим интерпретировать по‐разному одно положение или образ. Средневековые богословы находили в священном тексте Библии три уровня: аллегорический, когда одно событие указует на другое; тропологический (или – моральный), причастный пресловутой «морали» повествования, и, наконец, анагогический, возвышающий нас до сопричастности к Божественному. Когда‐то это был метод трактования Библии, однако он применим и в отношении всего сущего, и как один из вариантов постижения природы заключает в себе массу возможностей, и, как я считаю, такой, расширенный взгляд на арену страстей человеческих следует культивировать каждому, кто мечтает оставить неизгладимый след в нашей литературе. Как это ни парадоксально, чем шире и детальнее личная наблюдательность, тем легче компактно беллетризировать её плоды.
«Какая тематика вашего рассказа?» – любят спрашивать люди, в надежде услышать: «давление механизации на экономику среднего класса», или что‐то ещё несусветнее. Получив ответ, они удаляются с довольным видом человека, сэкономившего время и деньги. В представлении некоторых осмысление прочитанного рассказа происходит в тот момент, когда ты управился с текстом и дочитал, тогда как для автора смыслом исполнен весь рассказ целиком. Ведь рассказ и есть опыт, переживаемый автором, а не что‐то отвлечённое.
Из этого следует вторая общая черта прозы: сюжет словно бы раскрывается «вокруг» читателя. Это не означает, что он должен идентифицировать себя с персонажем. Просто историю чаще представляют перед читателем, а не делают репортаж с места событий. Говоря иначе, хоть проза как искусство и повествует, важную роль в ней играет драматургическое начало.
При этом действие не происходит в рассказе так же напряжённо, как в пьесах. Но если вы знакомы с историей романистики, вам должно быть известно, что и роман как форма развивался в направлении драматургического единства.
Главное отличие между романом восемнадцатого века и теми, что мы читаем сейчас, это отсутствие авторского голоса в его тексте. Тот же Генри Филдинг [47], например, появляется в тексте тут и там, разъясняя неясности и акцентируя внимание читателя на местах, важных для понимания происходящего на страницах книги. Так же поступали романисты викторианской эпохи. Но уже с приходом Генри Джеймса автор начинает знакомить читателей с сюжетом несколько иначе. Он излагает его глазами и мозгом самих персонажей, делая вид, будто ему, стоящему за кулисами, всё это не так уж и любопытно. Ближе к Джойсу авторские голоса испаряются полностью. Читатель предоставлен самому себе, барахтаясь в помыслах всевозможных неаппетитных личностей. В мире, куда заманил его Джойс, комментариев от автора нет.
Но читатель