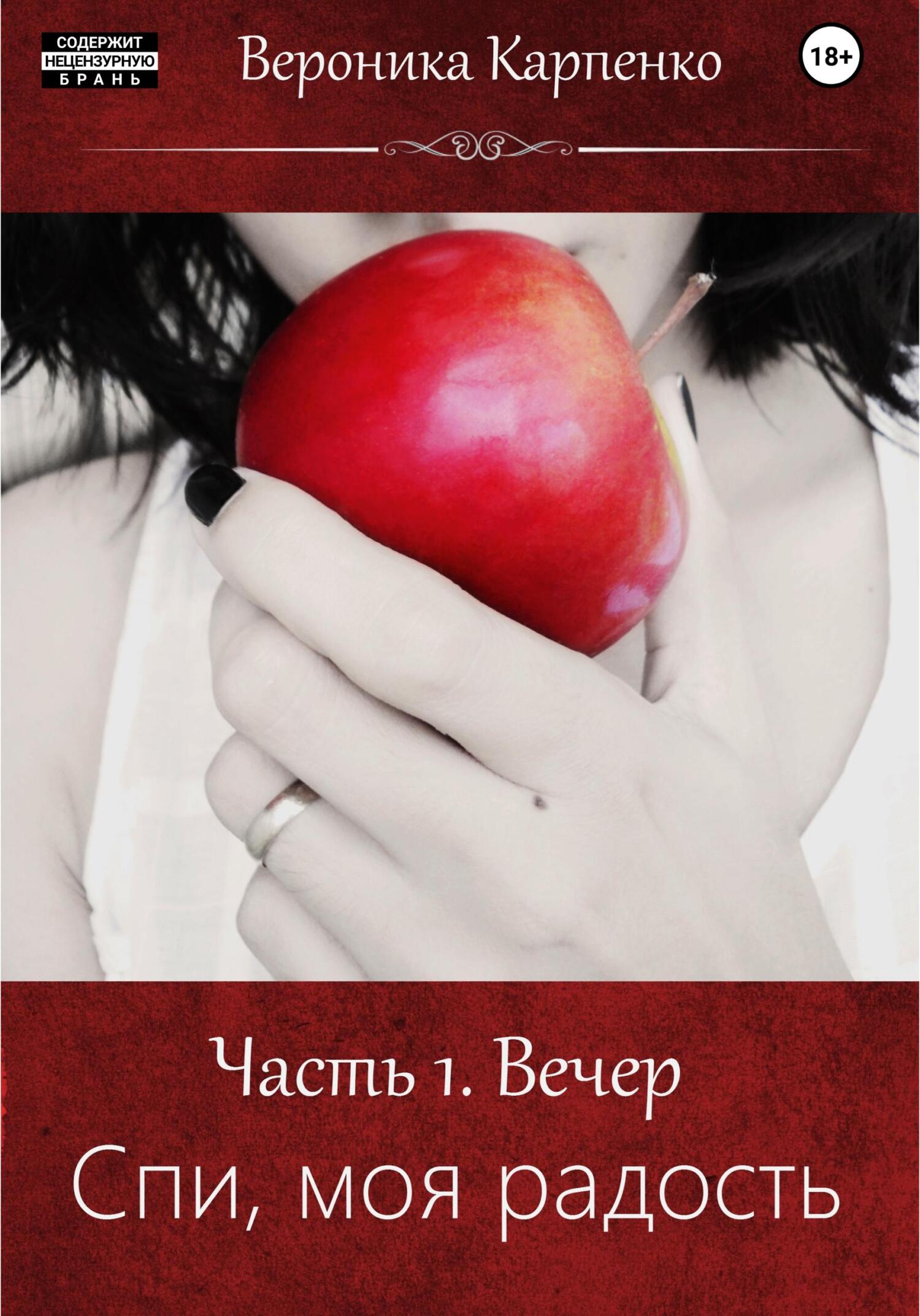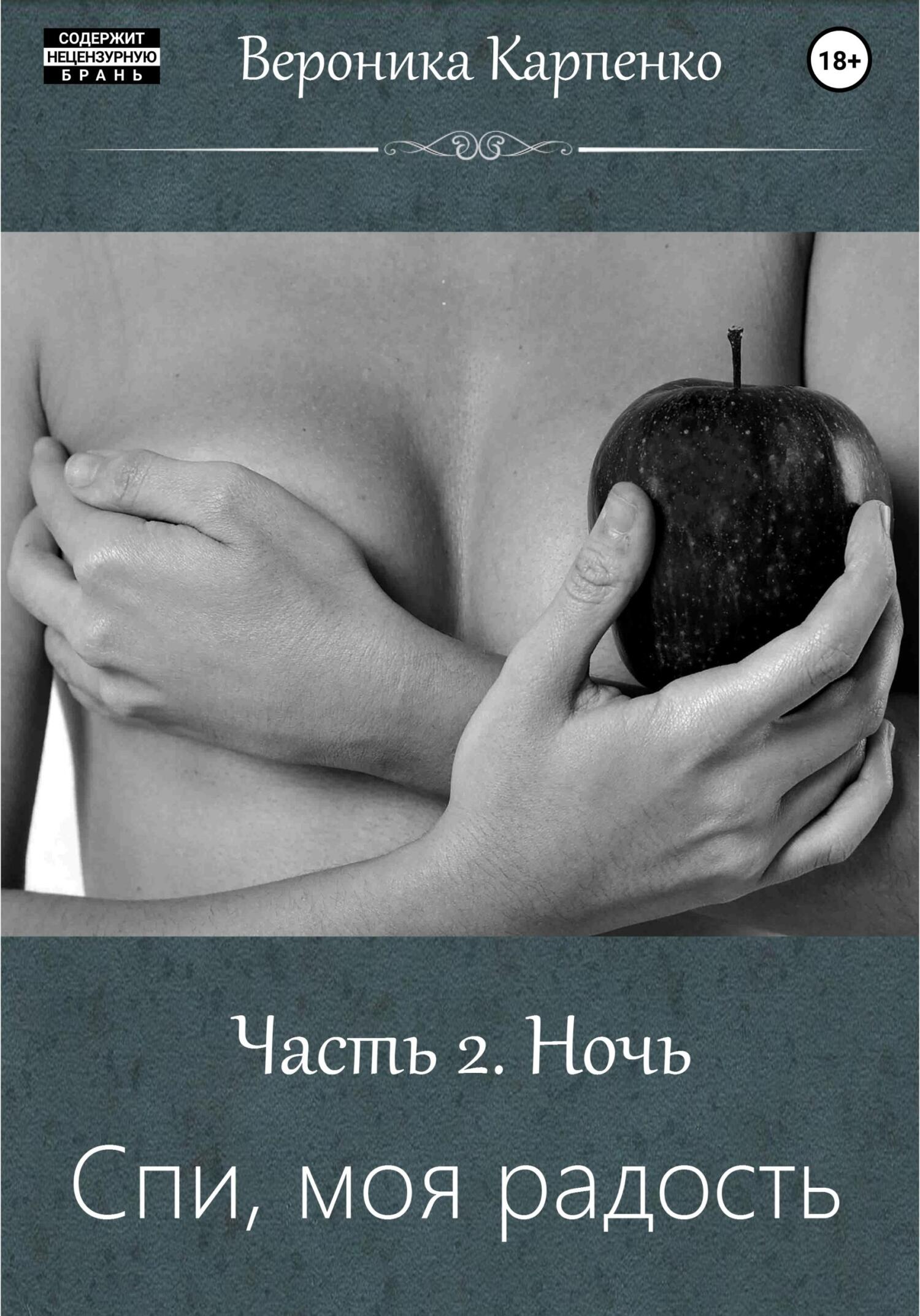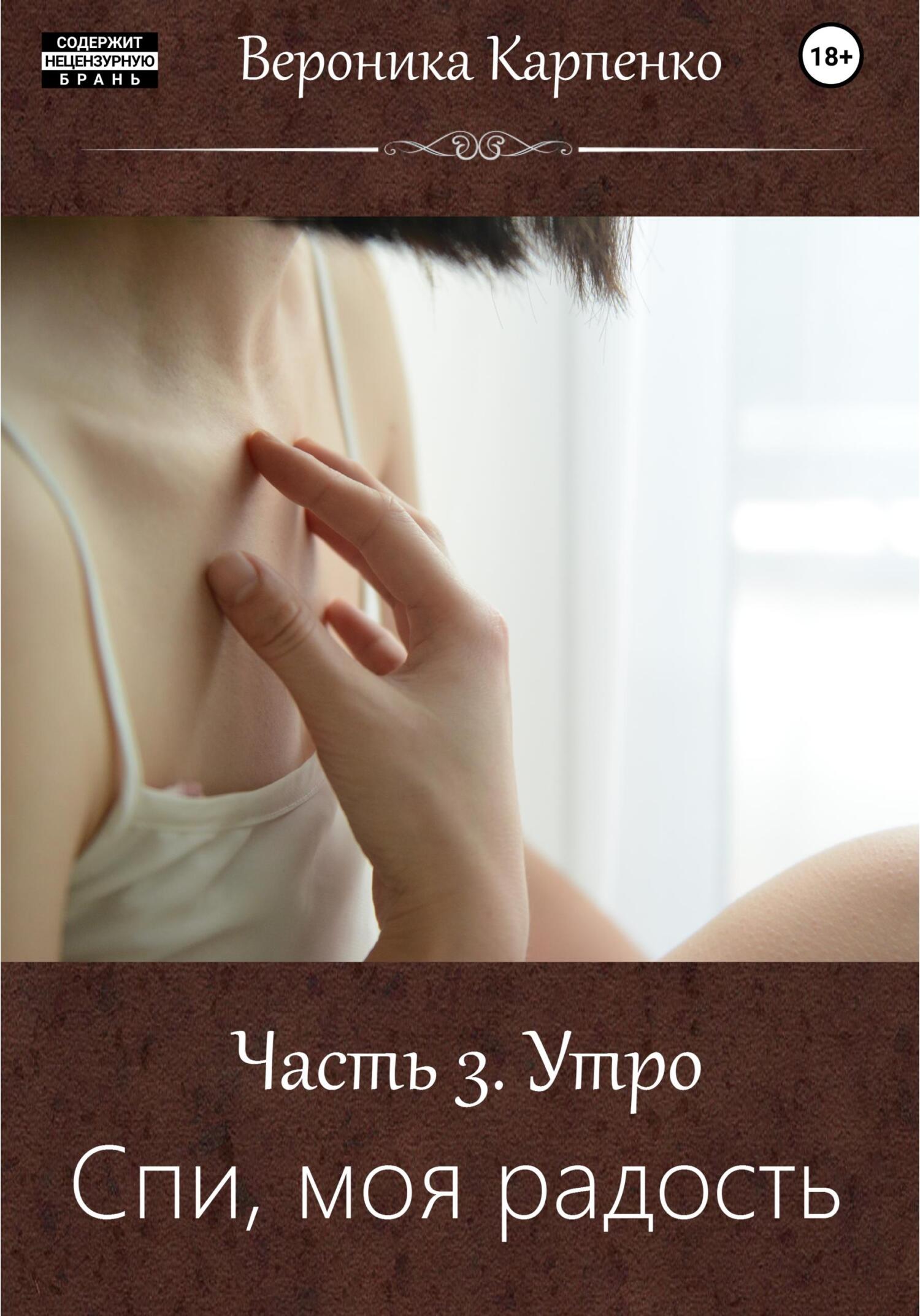В докладе мэтра не было ни доли снисходительности, ни малейшей попытки разжевать для студентов материал, лишь безупречная констатация того, как безудержно финансовые рынки и экономика в целом захватывают власть над миром и жизнью каждого человека. Того, как уничтожается этика, того, как политик приравнивается по статусу к муравью. И на десерт — живописание мира в духе Олдоса Хаксли, мира, который уготовила нам эта денежная тирания. После лекции Алексис думает только о том, чтобы взять в библиотеке все книги Марлоу, запереться на выходные в своей комнате в родительском доме и с головой погрузиться в экологическую и структурную драму мира, в исторические предпосылки, которые привели его к ней, в философские, культурные и прагматичные решения, разработанные гениальным мозгом его преподавателя. На этот счет у Алексиса нет ни малейшего сомнения: профессор Марлоу — гений.
Он толкает дверь библиотеки и проникает в мир тишины и бумаги. Входит туда, будто в убежище. Нет больше ничего, кроме шелеста страниц и бесшумных шагов немногочисленных посетителей и студентов. Никто не обращает на него внимания, он может преспокойно блуждать по лабиринтам вековых мыслей. Здесь он освобождается от той неловкости, которая столь часто сковывает его в присутствии других. На стеллажах теснятся сотни скрупулезно выровненных томов со штрих-кодами. Он доходит до секции политэкономии и легко обнаруживает четыре труда Марлоу. Изначально написанные на английском, они были переведены на десяток иностранных языков. Алексис довольствуется франкоязычными версиями, что, в общем-то, не так и плохо, учитывая солидный вес этих внушительных томов. Он забегает со своей добычей в общежитие, здоровается с соседями, сведя социальное взаимодействие к необходимому минимуму, собирает кое-какие вещи и спешит на вокзал. Едва расположившись в вагоне поезда, он открывает работу, опубликованную Марлоу первой, и вскоре уже не слышит стука колес, поглощенный вопросами расколотого общества, экономического психоза и рабства нового времени. Алексис читает, то и дело моргая (он должен был сменить контактные линзы еще в начале недели, но забыл заказать новый комплект), читает долго-долго, пока наконец не поднимает голову и не понимает, что проехал свою станцию.
* * *
— Алессис.
Далекий голосок пронзает необъятное одиночество. О, она снова здесь. Он ждал ее. Ее присутствие поднимает его ближе к поверхности. Ему не следовало бы, ей не следовало бы, сегодня уже не первый раз, когда она приходит одна, она добегается до того, что ее поймают. Ему на это плевать. Она оттирает с таблички присохшую грязь, которую принесли сюда ветер с дождем.
Она садится подле него. Он ощущает что-то вроде ласки на своей крошащейся коже. Он почти улыбается. Солнечный луч просачивается сквозь облака.
Она берет камешек, бросает его. Камень отскакивает от края вазы, в которой застаиваются розы. Вторая попытка. Мимо. Цветы увядают. Она обхватывает их руками, поднимает, вытаскивает. Шипы колют ее пальцы. Стебли царапают ей коленки, она отбегает и выкидывает розы в мусорный бак неподалеку. На могиле напротив стоит великолепный букет. Она с радостью переставила бы его к Алексису, но это могут заметить. Лучше она сходит за цветами в магазин возле школы, возьмет с собой деньги из копилки. Может быть, завтра.
Алексис слышит перестук. Камешки, ваза, урна, негромкий шорох, когда сестренка вновь присаживается рядом. Он начинает узнавать шаги своих посетителей, их приметы. Походку можно сравнить со звуком голоса. Шаги Ноэми звучат легко, она порхает, воздушно касается его. У Жюльет тембр более протяжный. У отца — шумный и назойливый, похожий на молотилку, от грохота которой у Алексиса возникает желание, чтобы его опустили в землю еще на шесть футов ниже. Звук материнских шагов почти неразличимый, в последний раз Алексис слышал их несколько дней назад, больше мама пока не появлялась. Она приходит, она останавливается, ни одна вибрация не пробегает от ее ног в землю. Она стоит, будто деревянная. Алексису не раз хотелось постучать снизу в крышку гроба и сказать матери: эй, ау, очнись. Но нет, ничего не поделаешь, мамина голова занята чем-то другим.
Ноэми — иное дело. Она просто проводит время возле него, не мучает и не упрекает. Она прибегает, она садится, она болтает. Приносит ему полевые цветы. Занимается своими маленькими делами. Ничего не ждет, ни о чем не умоляет: она навещает его, вот и все. Только рядом с ней он не беспокоится ни о своем состоянии, ни о своей внешности. Когда возле могилы стоят другие, Алексис гадает, на что он теперь похож. Он смотрит на себя, точнее, представляет себя, радуясь, что у него нет зеркала. Когда рядом Ноэми, все иначе: он умер, ну что ж, уже ничего не попишешь. Он такой, каким стал. Он будто бы дышит.
Конечно, он понимает, что родители терзаются вопросами. Но чем он может им помочь? Он не знает, что им сказать. С тем же успехом можно спрашивать новорожденного о том, что он тут делает, каким путем он добрался до этого маленького живого тела, каковы были обстоятельства его приземления в этом конкретном месте. Разве он об этом что-нибудь знает? И почему на новопреставленных не распространяется такое же отношение?
* * *
Мадлен шла вдоль реки. Дорога уже не пролегала у кромки воды. Дорога сама была водой, стопы Мадлен погружались в жидкое месиво. Паводок, прилив, который безжалостно сносит плотину и скоро схлынет. Она изольет воды, и ее малыш засохнет, волна унесет его и выкинет на берег. Он окоченеет у нее на глазах, а она ничего и не увидит. Она пыталась задержать реку, но та продолжала свой неумолимый подъем. Вскоре земля закоробится, покроет ее губы трещинами, украдет у нее ребенка.
Ее что-то тревожило, и это что-то было связано с размерами тела Алексиса, вот-вот, все дело было в этом: его положили в слишком маленький гроб, они точно ошиблись, это точно был не его гроб. Он толкался, он вырывался, он молотил по своему гробу, по ее животу, превратившемуся в разверстую могилу. Он растягивал ее внутренности. Так неужели это река забрала его?
Она говорила с ним. Заново переплетала нить от своего сердца к его. Слушала, как он бормочет, слушала, как он играет, он крутился, ворочался, ему требовалось пространство, он колотился о стенки при каждом ее шаге, и как только она не увидела, что ему не хватает места? Почему он не сказал, что ему слишком тесно?
Горизонт манил ее. Если дети умирают, если жизнь так же хрупка, как взмах крыльев над рекой, лучше остерегаться всего, что долговечно. Лучше вытянуться в полумраке на