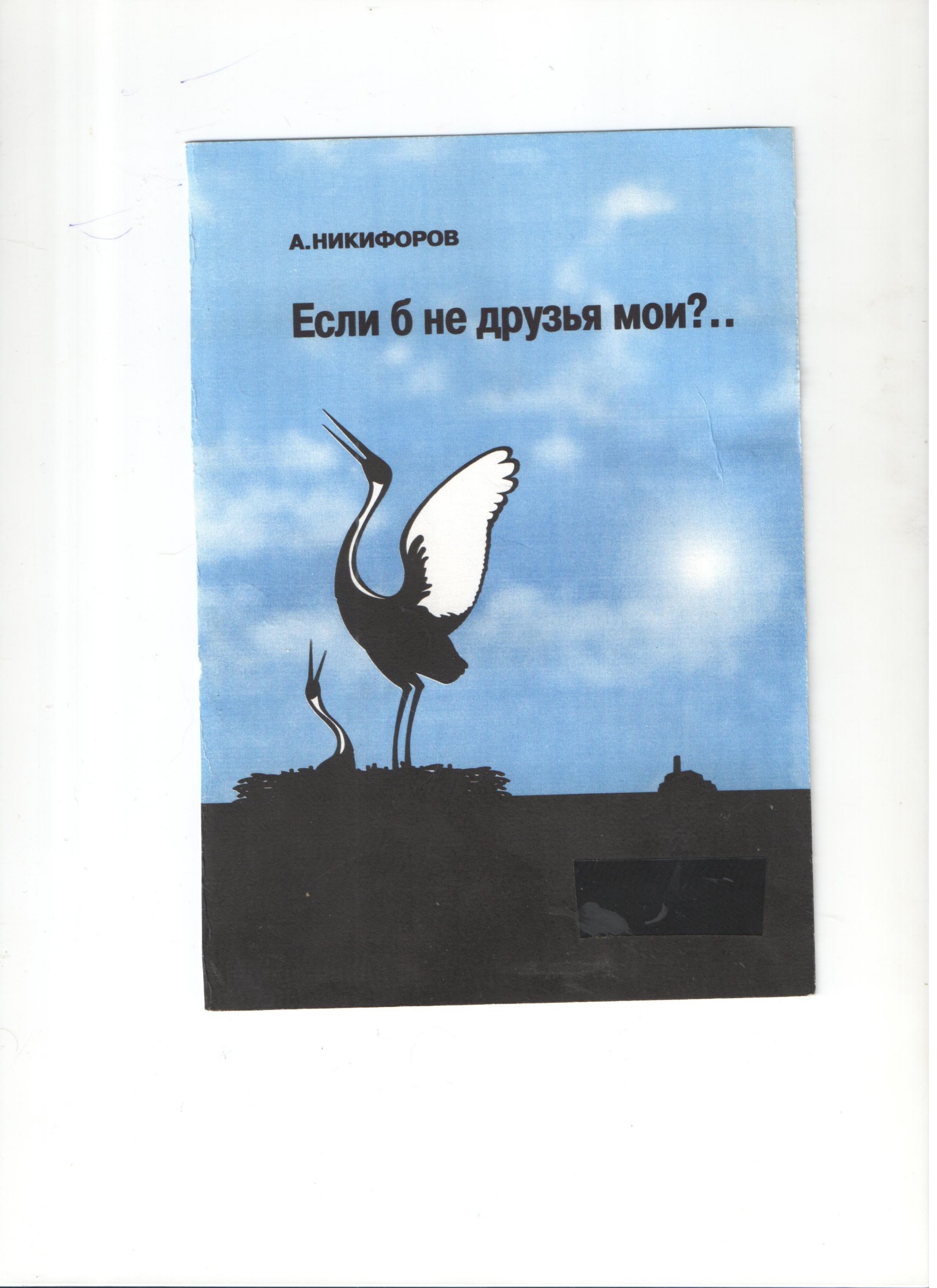щетиной.
Он предложил попробовать кое-что другое. Он потер подбородок, помогая себе думать пальцами.
Кое-что сумасшедшее. Шаловливое.
Почему бы и нет. Мне это подходит, особенно раз я уже удачно поработала. И с этой работой справлюсь.
В голове слегка гудело.
Я почувствовала руку Тони на шее. Он касался моих волос. Он предложил уложить волосы по-другому. Можно убрать хвостик и оставить волосы распущенными. Он пах сидром, или это от меня пахло.
Мне не особенно нравилось, как он перемещал свою руку, но и убрать ее я не попросила.
Я сделала, как он просил. Распустила волосы.
Еще фото. Еще позировать. Снова переодеваться. Улыбки, гримасы. Клоунада и глупые шутки.
Тони считал, что дальше нужно было снимать так, что мое тело было лучше видно. Лучше видно? Оно и до этого не было особенно скрыто.
Тони предложил мне остаться только в нижнем белье.
Я не знала, что на это ответить.
Действительно не знала.
Я стала сомневаться, хорошая ли это была идея – фотографироваться.
Тони спросил, листала ли я когда-нибудь каталоги одежды. Там всегда много страниц с фотографиями в купальниках и белье.
Не то что бы, я засомневалась, но Тони ответил, что за такие фото больше платят. Такие просто маст хэв в портфолио.
Было как-то неловко слышать, как взрослый пытается говорить по-молодежному.
Тони положил на стол пятьдесят евро. Я не собиралась соглашаться, но ничего другого тоже не могла придумать. Так что почему бы и нет, деньги всегда нужны.
Я пошла в туалет снимать платье – что само по себе смешно – и вернулась снова к камере, как бы защищаясь руками, но потом осмелела и вела себя, как профи. Когда мы сняли все, что хотел Тони (руки на пояснице, руки запущены в волосы, руки наверху на стене, спина выгнута, губы сомкнуты, лицо злое), у него снова появилось задумчивое выражение. Он спросил, как насчет того, чтобы снять вообще все.
Гав, не волнуйся. Я этого не сделала. По-моему, это было слишком.
Я сказала, что, возможно, когда-нибудь.
Когда-нибудь в другой раз. В какой-нибудь другой жизни.
Тони сказал, что за эти фотографии он заплатит сотню, и я уверена, что он бы так и сделал, но я оделась в свою одежду и сказала, что мой поезд скоро отходит и мне надо успеть на него, хотя у меня даже билета не было.
Я решила, что, если он еще предложит какую-нибудь глупость, я ударю его между ног. Но я не была уверена, что смогу.
XVIII
Вся эта штука кажется странной. Я имею в виду мой возраст. Мне кажется, что произошло какое-то недоразумение.
Я должна быть старше, чем я есть. Пятнадцать. Не совсем соответствует. Я должна была больше прожить.
Возраст – это только цифры. Я это слышала много раз. Так говорят женщины маминого возраста, которые считают себя моложе, чем на самом деле. Они носят леггинсы, примеряют в молодежных магазинах одежду, которая им мала, торчат на Фэйсбуке до ночи, делают селфи, на которых губы уточкой (мама такое делает всегда с одной подругой, когда они, так сказать, развлекаются) и иногда танцуют в ресторанах на столе (мама и это делала, судя по фоткам в телефоне) – и это никого не делает молодым.
Жаль, конечно.
И морщины совсем не сглаживаются, хотя на них наносят все эти дорогущие крема, как тот стоивший почти сотню крем вокруг глаз, которым папа однажды случайно намазал руки после душа и довел маму практически до истерики.
Я уже давно взрослая. Мне было семь, когда я сообщила, что у меня должно быть право голосовать, раз у взрослых оно есть. Я этого сама не помню. Может так оно и было, а может и нет. Мне так рассказывали.
Проблема в том, что все хотят быть теми, кем они не являются.
Молодые хотят быть взрослыми, а взрослые – молодыми. Редко кто доволен тем, какой он в данный момент, и я не исключение.
Возьмем, к примеру, папу. Этот с трудом двигающийся человек весит больше ста килограммов, но он не толстый. Не очень.
Он высокий. Немного живот выпирает, летом его можно втянуть, чтобы пиджак застегнулся. Немного сутуловат. Немного чувства юмора.
Когда я была маленькая, я хохотала над его шутками, хватаясь за живот…
Русые, но все-таки какие-то бесцветные волосы, которые еще, наверное, с младенчества уложены на пробор и за которыми он ухаживает в парикмахерской четко раз в месяц. Выдергивать вылезающие как попало седые волоски он перестал, поэтому на его голове постоянно возникают напоминания о его возрасте. Из ушей наружу выглядывает кучерявая шерсть, что наводит на мысль о лишайнике, который мы искали в лесу на уроках биологии. Неудивительно, что он никогда не слышит, что ему говорят. На самом деле он довольно старый. Старше мамы, которая тоже старая, но пытается казаться другой.
У папы есть большой черный кожаный портфель. Он стоит в прихожей на стуле, когда папа дома, и исчезает, когда папа на работе или совещании.
На своем месте портфель стоит довольно редко.
У папы много ответственных заданий. Мне кажется, что ему не очень хорошо дома, так же, как и в своем неуклюжем теле, но от него особо никуда не денешься.
Поднимаясь по лестнице, он пыхтит, и это одновременно как-то неловко и трогательно.
Папа стал забывать некоторые вещи. Он всегда рассеян, но сейчас больше, чем обычно. Может случиться, что он не сходит в магазин, хотя обещал. Не заплатит вовремя по счетам, и ему приходят напоминания.
Как-то он даже ушел на работу без портфеля.
Если ему напомнить о том, что он чего-то не сделал, он только ворчит и просит, чтобы кто-нибудь уже ему сказал, что нужно сделать, потому что у него нет образования телепата, пока нет, хотя, вероятно, стоило бы получить.
Ну какое-никакое другое образование имеется. И очень много прочитанных книг и отчетов.
Папе не нравится, что мы с Йооной называем его стариком. Поэтому мы, конечно, именно так и делаем.
Йоона на пару лет старше меня и на миллион световых лет инфантильнее. Официально ему семнадцать, по духу – примерно два, раз уж такое дело.
Маленький мальчик с пушком на щеках, который вышагивает так, как будто у него по целому арбузу под каждой подмышкой. Перед зеркалом он закатывает рукава и напрягает жалкие бицепсы и просит, чтобы я ударила его в живот, ибо живет в полной уверенности, что сделан из железа.
Иногда я бью,