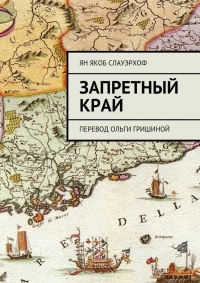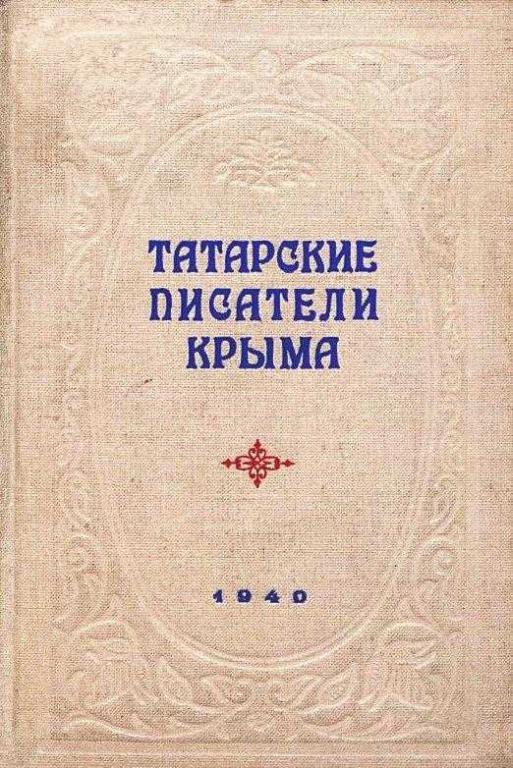него в суд подавай.
— Кого он избил: меня или тебя? — рассердился Филипп Афанасьевич.
Степан заколебался… Судиться страшно, а гнев Филиппа Афанасьевича еще страшнее… Нет, нельзя его сердить, нельзя…
Степан вздохнул и тихо проговорил:
— Ефремов Захар, Кудашнурский черемис… Что было, сам знаешь, так и пиши. Свидетели: зеленопольские черемисы — Спиридон Епишев и Ипат Пайметов…
Полчаса спустя Филипп Афанасьевич кончил писать прошение земскому начальнику с просьбой привлечь Сакара к суду.
Так в один день на Сакара были составлены две жалобы…
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
1
Ветер совсем обезумел: свистит, завывает по-волчьи, гудит и стонет, как леший, бьется в окна перепуганной птицей, — трясет стены, срывает крышу — будто хочет опрокинуть школу, ворваться в комнату, задуть керосиновую лампу, разметать лежащие на столе бумаги, тетради и книги…
Но человек, сидящий за столом, кажется, даже не слышит ни свиста, ни воя, он целиком ушел в свою работу. Перед ним лежат три стопки ученических тетрадей. Каждую надо проверить, исправить ошибки. Столько работы, что тут уж некогда обращать внимание на погоду.
Григорий Петрович устало потянулся и встал из-за стола.
Новый, еще более сильный порыв ветра ударил в окно. В рамах зазвенели стекла. Григорий Петрович подошел к окну и, заслонившись рукой от света лампы, посмотрел на улицу. Но разглядеть он ничего не смог, белый снег наглухо залепил стекла. Лишь было слышно, как за слепыми, залепленными пургою окнами бушует, обезумев, ветер и со свистом и завыванием бросается на стены дома.
Григорий Петрович представил себе огромный океан, разгневанные волны… Огромные водяные глыбы, поднимающиеся выше дома, и среди этих волн — одинокая лодка… Волны бросают лодку из стороны в сторону, как щепку… А в этой лодке он, Григорий Петрович, один-одинешенек… Страшно; жутко…
Григорий Петрович снял висевшую на стене скрипку, провел несколько раз смычком по струнам, настроил и заиграл «Лесную сказку».
Он очень любил этот вальс, особенно вторую часть, которая напоминала ему марийские песни. Он часто и подолгу наигрывал на скрипке мелодии любимых песен. Вот и сейчас мелодия вальса незаметно перешла в марийский напев. Григорий Петрович тихо запел:
Когда за ворота я поглядел,
То улицу нашу увидел.
Когда я с улицы вдаль поглядел,
За улицей поле увидел.
Когда я с поля вдаль поглядел,
То луг я зеленый увидел.
На луг зеленый я поглядел,
Черемушник частый увидел.
Вам-то луга, а нам-то — беда.
Когда же черемуха будет, цвести?
Что же украсит ваши луга,
Черемуха если не будет цвести?
Наша-то доля — сиротская доля,
Значит, и песни нам грустные петь.
Что же украсит нам горькую жизнь,
Если и песен не будем мы петь?
— Да-а, ничего не скажешь, красивая песня, — тихо проговорил Григорий Петрович. — Что слова, что напев — чистое золото. А мы, марийские интеллигенты, не ценим своих песен, даже, бывает, стесняемся их петь… Эх, журавли, отбившиеся от стаи!..
Григорий Петрович повесил скрипку на стену, взял со стола книгу, долго листал ее, потом начал читать вслух:
О, родина моя!
За что любить тебя? Какая ты нам мать,
Когда и мачеха, бесчеловечно злая,
Не станет пасынка так беспощадно гнать,
Как ты детей своих казнишь, не уставая?
Любя, дала ль ты нам один хоть красный день?
На наш весенний путь, раскинутый широко,
Ты навела с утра зловещей тучи тень,
По капле кровь из нас всю выпила до срока!
Как враг, губила нас, как яростный тиран!
Во мраке без зари живыми погребала,
Гнала на край земли, в снега безлюдных стран,
Во цвете силы — убивала…
Мечты великие без жалости губя,
Ты, как преступников, позором нас клеймила,
Ты злобой душу нам, как ядом, напоила…
Какая ж мать ты нам?? За что любить тебя?..
— Значит, так-то, дорогой друг Мельшин. Ты словно подслушал мои думы. Да и за что нам любить царскую Россию, — тебе, товарищ, и мне тоже? Ведь тебя двадцатичетырехлетним юношей засадили в Петропавловскую крепость. Тебя приговорили к смерти за то, что ты хотел помочь обездоленным и угнетенным людям. Правда, тебя не убили, смертную казнь заменили каторгой и отправили в Сибирь, на Акатуй. Мгновенную смерть заменили гибелью, растянутой на долгие годы… Да, все так! И все равно ты любил родную землю… За что?!
За что — не знаю я: но каждое дыханье,
Мой каждый помысел, все силы бытия —
Тебе посвящены, тебе — до издыханья!
Любовь моя и жизнь — твои, о мать моя!
Родную мать всегда любишь, какая бы она ни была. Мать и надо любить! В этом ты, товарищ, прав… А я? Почему я люблю свою страну? Разве нам, марийцам, царская, николаевская Россия мать? Нет, она нам даже не мачеха. Для нас она — тюрьма, в которой нам и ды-шать-то свободно не позволяют. Нам предоставлено лишь право платить налоги да посылать, наших братьев в солдаты. Царской России не нужны ни наш язык, ни наша культура.
Кто-то постучал в дверь.
Григорий Петрович прислушался.
Стук повторился.
«Нет, это не ветер», — подумал Григорий Петрович. Он накинул на плечи пальто, надел шапку и вышел в сени. Немного погодя вернулся в комнату с высоким мужчиной. Мужчина был в башлыке и с фонарем в руках.
— Ну и метель, — сказал вошедший. — В такую погоду хороший хозяин и собаку не выгонит из дому.
— Куда же ты собрался, Василий Александрович, в этакую непогодь?
— А вот отгадай… Вокруг твоего дома так намело, что я еле-еле прошел…
— Ладно, развязывай башлык, снимай пальто. Давай-ка я фонарь подержу.
— Нет, Гриша, мне у тебя сидеть некогда. Я, так сказать, посол. А впрочем, пусть немного подождут… — Василий Александрович поставил на пол фонарь, размотал башлык. — Пальто не снимаю, что-то прохладно у тебя.
— Вот уж неправда! Это на улице ветер выдул из тебя все твое тепло. Не впусти я тебя еще минуту,