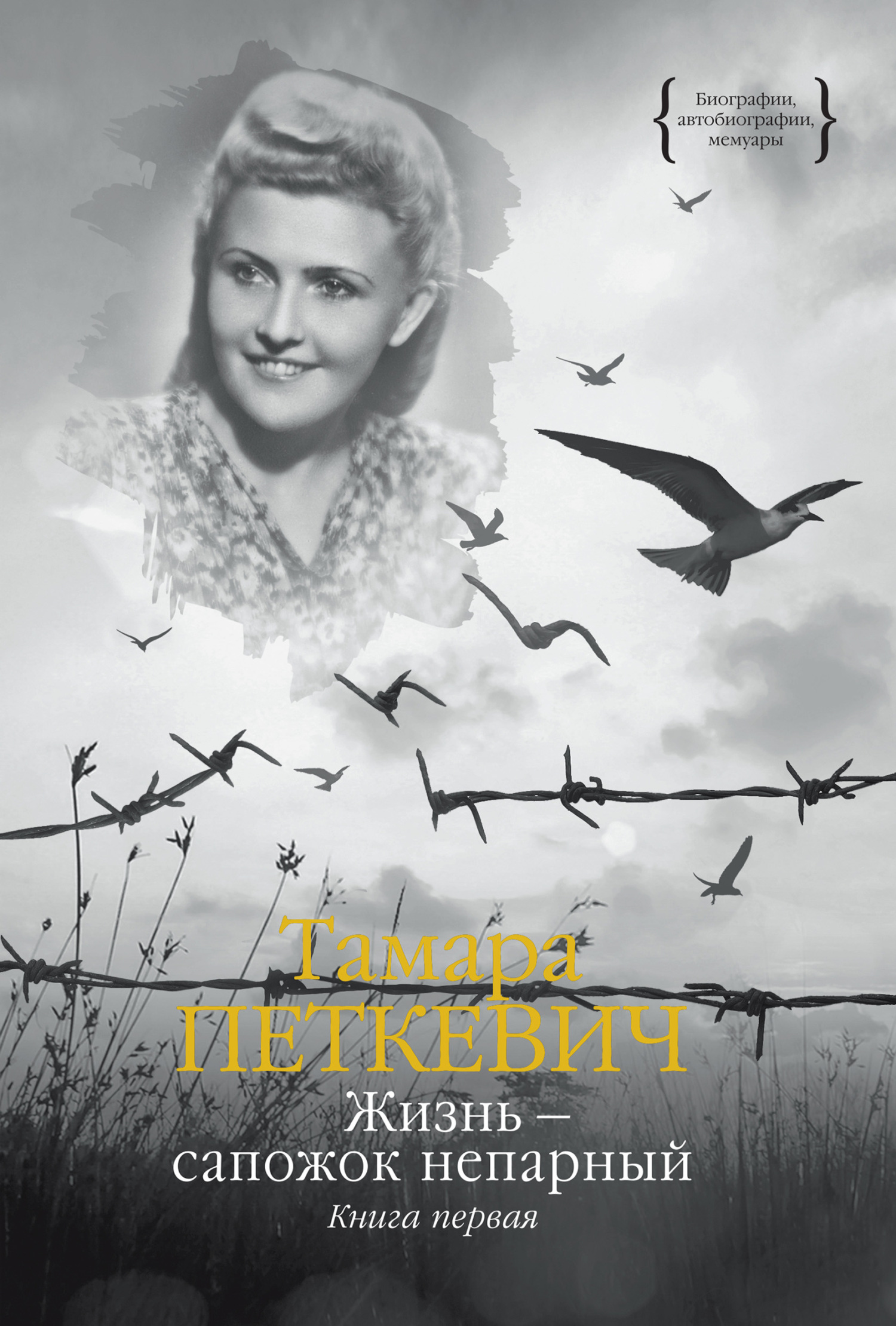тоской рвалась. Прошлое подцепило и потащило меня, начало втягивать, всасывать в себя. Раскрутившаяся энергия, до которой я посмела дотронуться в поисках отрадных воспоминаний, стала бить наотмашь, требуя, чтоб я посторонилась, если хочу уцелеть. Казалось, что никакое сопротивление натиску мстительных сил меня не спасёт, что я ни за что не вынесу их агрессии, если немедленно не сяду в поезд и не уеду отсюда.
Билетов на Ленинград не было. Но Север активно гнал от себя. Я попросила взять плацкарту на Москву.
* * *
В 1996 году десятки раз езженая дорога – через станции Андога и Суда, где когда-то отец работал начальником торфоразработок и куда я приезжала на школьные каникулы, – не воскрешала больше элегических настроений. Расстрел как реальный финал судьбы отца решительным образом перестроил воспоминания.
Поезд вёз дальше на Север. Мелькали названия станций, вовлекая в пропасть прошлого. Я поймала себя на том, что память воскрешает что-то прочно забытое, не то привычное, что сопровождало мои командировки из Микуни в Ленинград.
Проезжая теперь место, где родился, где с удивлением и заливистым смехом впервые встал на ножки мой сын, я уже не пыталась соединить в одно младенца, которого по пять раз в день одержимо бегала кормить в детприёмник, с не признающим во мне мать сегодняшним взрослым мужчиной. В сознании они существовали – порознь.
Через окно вагона я смотрела на валявшиеся возле железнодорожного полотна сгнившие деревянные шпалы, которые мы укладывали в сороковые годы. Нынче их заменяли железобетонными… Как же я стара, Боже! И какой невероятной силы память ведёт меня – через сорок шесть лет после освобождения – в эти места!..
От Микуни на Сыктывкар теперь была проложена железнодорожная ветка. В Микуни поезд имел длительную стоянку. По прямой, как линейка, дороге я быстрым шагом успела дойти до Дома культуры. Там у входа стояли посеревшие, но целёхонькие скульптуры, созданные заключённым Борисом. В сторону дома, в котором я жила в Микуни, не повернула головы.
В столицу Коми, Сыктывкар, поезд прибыл к ночи. К вагону подбегали молодые незнакомые люди. Вглядевшись, в одной из женщин я узнала ученицу мужа, Верочку Морозову. С самого начала всё в этой поездке было неожиданным. Приглашена я была, оказывается, не ровесниками и солагерниками, а юными сотрудницами Финно-угорского центра, никакого отношения к лагерю не имевшими. Поселили меня не в гостинице, а в каком-то ведомственном профилактории, в необычайно уютном и чистом номере, в тишине. Это помогало справляться со всем нахлынувшим.
– Сюда, Тамара Владиславовна, сюда садитесь, к окошечку, – встретила меня наутро заведующая столовой.
На кухне громыхали пустыми кастрюлями. Все уже были накормлены. На отведённом мне месте стоял стакан берёзового сока и прозрачный мёд в розетке. И как-то совсем уж по-домашнему мне сказали: «Сейчас принесём вам горяченькой каши и судака».
Республика Коми! 1996 год. Октябрь. За окном на алеющую листву с хмурого неба неторопливо слетали снежинки. Я всё ещё в пути. Пора бы примириться с тем, что «в пути» означает – «дома»…
Мне предстояло побывать в двух музеях и встретиться с читателями в Финно-угорском центре. У входа в краеведческий музей ожидала группа сотрудников. Заочно, по переписке, с кем-то из них мы были уже знакомы. Музейная экспозиция рассказывала историю этой земли. На богатства природа тут не поскупилась: лес, уголь, нефть, радиоактивная вода. Государственная стратегия развития края, по примеру щедрости недр, беззастенчиво размашисто использовала рабский труд. Вдоль стен – стенды с фотографиями множества людей, подневольной рабочей силы. Это мы, заключённые, свезённые сюда с разных концов СССР. Мы – на строительстве железной дороги. Мы – на лесоповале, на распиловке стволов, на погрузке брёвен, досок. В шахтах, при добыче руды, тоже мы. Завершали этот визуальный ряд фотографии кладбища заключённых: над свалочными ямами – ряды колышков, к которым прибиты дощечки с номерами. Так на новом языке времени фотодокументы излагали повесть о нас.
А вот за стеклом стенда – плошки, черпак, пара глиняных горшков. Эта незамысловатая утварь была изъята по описи при раскулачивании крестьянской семьи. Другой этап истории отечества.
Экскурсия была организована для меня одной. Как перед полпредом трудившихся здесь невольников, молоденькая сотрудница музея с сопровождавшими её коллегами держали передо мной экзамен на Совесть и Память. Я была глазами и ушами ушедших. И хорошо, что музейная подача «материала» не обнажала преступную правду до дна. Боль и так была сильна, волнение – обоюдно.
После чаепития в кабинете директора музея, при прощании молоденькая девушка-экскурсовод сказала: «Я и подумать не могла, что вы ещё живы и я смогу сказать вам, как люблю вашу книгу».
Затем был поход в картинную галерею. Художники Коми запечатлели свой народ литым и цельно скроенным. Косая сажень в развороте плеч у охотников-коми, у коми-рыболовов. Тундра, тайга – и они, богатыри. Озёра, реки – и они, добытчики. И тут же – нечто из другого миропонимания: вместо самолёта по небу движется танк-вездеход, погубитель не только земли, но и неба… Или картина «У камина», где пасть камина черна, об огне нет и речи; рядом с камином – мольберт, на который устремлён опустошённый взгляд художницы… В углу зала теплела вырезанная из светлого дерева скульптура лукаво-улыбчивого пасечника.
На встрече с читателями в Финно-угорском центре в роли ведущей выступала недавняя студентка Володи Верочка Морозова. В тёмном платье с белым кружевным воротничком, она выглядела ничуть не смущённой темой встречи. Мне оставалось только удивляться трезвости её оценок «исторического прошлого» и незатасканности формулировок.
Читатели просили перечислить, в каких местах республики я отбывала срок, кто-то называл имена родных и знакомых с надеждой: «Не встречали?..» Интересовались режимом дня заключённых. Спрашивали: «Сумели ли вы забыть прошлое?», «Есть ли у вас семья?», «Как вы относитесь к общественным переменам?», «Верите ли в Бога?». Форма «вопрос-ответ» помогала ненароком выявить не букварную, а живую правду. В каждой аудитории возникал свой климат, выкристаллизовывалась своя тема. Здесь ключевым вопросом стал такой:
– Как вы относились и относитесь к тем, кто вас охранял?
Обычно я отвечала:
– В зависимости от того, каким был тот «человек с ружьём».
В лагере заключённые наклеивали на вохровцев меткие ярлыки: «садист», «куркуль», «зверь». Бывали «молчуны». Бывали – «бати». Редко. Случались «соловьи» и «розы» – поклонники солистов и музыкантов, сопровождавшие наш ТЭК.
Нынче в местах, где после ликвидации лагерей бывшие узники и те, кто их охранял, остались работать и жить бок о бок, бытовое, неслужебное соседство, переподчинённость приводили к беспрерывным баталиям. Проволоку, отделявшую заключённых от вохры, заменил идеологический сумбур в головах вохровцев. В присланном