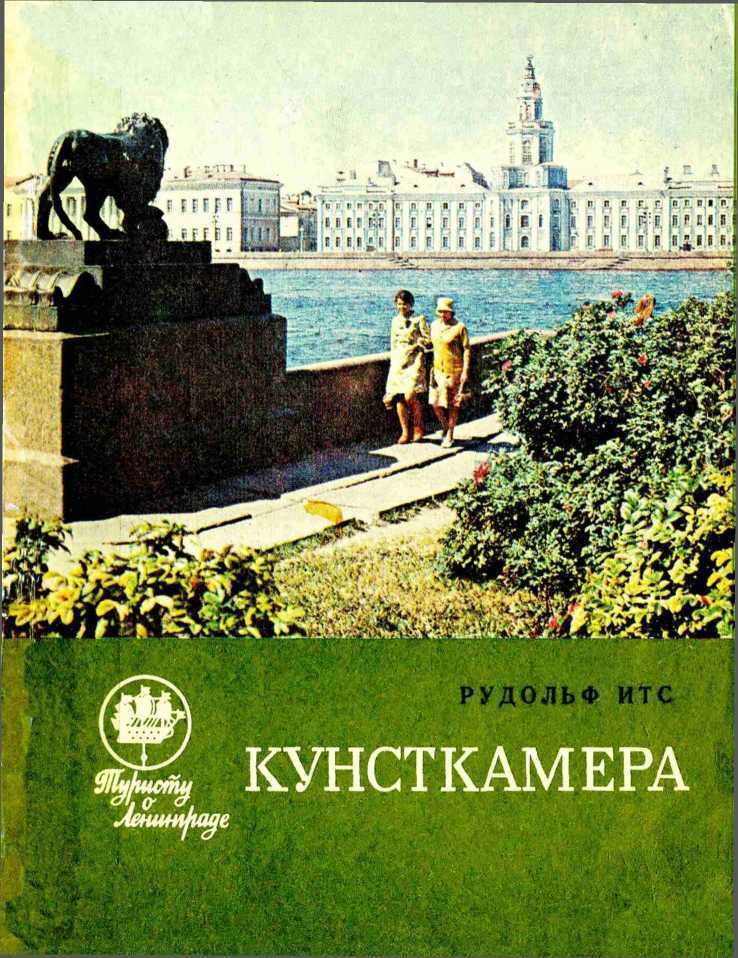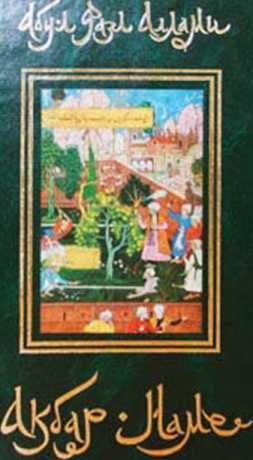обратился ко мне. (Он был по происхождению немец и назвался Бекманом), и не видя ещё поломки, выразил сомнение, чтобы мы могли далеко уехать в таком разбитом и вообще плохо сделанном экипаже. Когда же ему показали сломавшуюся часть, он категорически заявил, что безумно и глупо пускаться в дорогу, не исправив повреждений. Что касается до праздника, то это было одно измышление Маевского. Несмотря на высказанное больным нетерпение, который даже плюнул незнакомцу вслед, он должен был тем не менее отправиться в гостиницу, указанную всё тем же незнакомцем. Потянулись томительные часы. Больной во что бы то ни стало требовал выезда, старался влезть в экипаж, хотя ему указывали испорченную часть и сам экипаж стоял подпёртый подстановкой. Убедить его в чём-нибудь было решительно невозможно: считая себя под особенной небесной защитой, он не допускал мысли, что с ним может случиться какое-нибудь несчастие. По истечении 5 часов нам можно было отправиться дальше. Не успели мы отъехать от города, как экипаж, раскатившись на глинистой, размытой дождями почве, опрокинулся на правую сторону. Больной, на которого я навалился, не особенно сильно придавив его, испуганно вскрикнул, и я подумал, что больной сильно расшибся. Шмидт, как следовавший на левой стороне козел, скорее встал, вскочил на ноги и помог мне; он предлагал свои услуги и надворному советнику, но тот, отказавшись от предложенной помощи, позвал Маевского. Проходя мимо меня, он серьёзно взглянул на меня и перекрестившись промолвил: “Иисус Христос Бог!”, затем медленными шагами начал спускаться с горы. Шмидт, идя за ним следом, упрашивал его подождать, пока подъедет экипаж. Он спокойно отклонил сделанное ему предложение. У меня же из опухшей губы шла кровь, а на лбу вскочила шишка. Маевский, сжав голову обеими руками, бегал взад и вперёд, с воплем вскрикивая: “Ах, моя голова, моя голова!” Он проклинал Барклая де Толли за то, что тот не озаботился дать наилучший экипаж. К нашему счастью никто из нас не был изувечен! Мне было отчасти приятно, что пережитая нами неприятная случайность убедит наконец г-на надворного советника, что Бог не больше нашего печётся о нём. Около нас собралась кучка людей, которые и помогли поднять экипаж, в нём не произошло никаких поломок, раздавился только один фонарь. Сев раньше, я помог взобраться и г-ну надворному советнику. Я держал в дороге у губы носовой платок, и больной несколько раз взглядывал на меня, не думаю, чтобы из участия, а скорее как на человека, которого постигла справедливая кара Божья. Вечером приехали мы в Узорицу. Больной хотел было ночевать в экипаже, но несмотря на своё желание, остался на ночь в комнате; я поместился возле, в чулане, отделявшемся от его комнаты одной перегородкой и кишевшем тараканами.
Изобретение Рима
1.
На западном фронтоне Исаакиевского собора в Петербурге есть барельефное изображение святого Исаакия, благословляющего византийского императора. Среди вельмож, которые окружили императорскую чету, – один, Сатурин, схож чертами лица с другим вельможей, российским, а именно с Алексеем Олениным, подобно византийцам тоже сделавшим пожертвование на Церковь.
“Взнос” Алексея Николаевича исчислялся несколькими серебряными монетами. При установке 64-тонных колонн их торжественно заложили в основание. Но скульптор Витали увековечил Оленина, разумеется, не за серебряные монеты. К моменту установки колоннады Алексей Николаевич имел за спиной почти полвека блистательной государственной службы. Из них десять с лишним лет он возглавлял Академию художеств, что вместе с прочими сюжетами его карьеры давало Алексею Николаевичу право взирать на петербуржцев с высоты фронтона.
К моменту прихода его на должность главы Академии в петербуржском “храме искусств” царило запустение. То, что Батюшков когда-то описывал в “Прогулке в Академию художеств” – было лишь “выставочной” стороной дела. Закулисная повседневность выглядела иначе. Зашедший с улицы прохожий немало удивился бы тому, что увидел. В сумрачных анфиладах огромного здания гуляли сквозняки. Классы едва освещались сквозь грязные стёкла. Внешняя дверь закрывалась настолько плохо, что зимой на пол наметало сугробы. Стены покрывали рисунки и надписи. В обветшавшей одежде, вечно голодные, болезненные, предоставленные сами себе – студенты и пенсионеры праздно шатались по узким и тёмным, похожим на пещерные щели, коридорам. Младшим часто доставалось от старших. Уже с утра многие были нетрезвы.
Когда Оленин вошёл в должность, в кассе Академии оставалось 17 рублей 26 копеек. Однако дело было не только в скудном финансировании, а в самой организации учёбы. Ученикам и пенсионерам предоставлялось слишком много свободы, и не всякий использовал её ради образования. С воцарением же Оленина Академия – по словам профессора Иордана – “как будто в испуге проснулась”.
В классах были вымыты окна и заведено регулярное проветривание. Суп из перловки с бобами сменился полноценным трёхразовым питанием. Пьяниц и дебоширов отчислили. От “дедовщины” избавились. В классы внесли античные скульптуры для срисовывания, а уже готовые копии, произведённые учениками-скульпторами, выставили на продажу. Чтобы пресечь праздношатание, дополнили расписание уроками танцев, музыки и пения. Приступили к театральным постановкам, зрителями и “оценщиками” которых стали давнишние “подопечные” Оленина – Крылов и Гнедич.
Само собой, оленинское вмешательство во все обстоятельства академической повседневности не всем приходилось по нраву. Многие пенсионеры – далеко не детского уже возраста – обнаружили в начальственной строгости ущемление личной свободы художника. Не только дисциплина, но сама творческая воля виделась им ограниченной приверженностью Оленина к античной классике и русскому “средневековью”. “Алексей Николаевич был слишком самонадеян в своих познаниях, – замечал скульптор Фёдор Толстой, – и слишком много верил в непогрешимость своих взглядов и убеждений”.
Справедливости ради надо сказать, что взгляды Оленина на искусство полностью соответствовали неоклассицизму, который тогда господствовал в европейских Академиях. Однако стихийный студенческий демократизм всё равно искал выхода. Дело доходило до прямых оскорблений – настенных граффити (“Оленин собака”). На что глава Академии, впрочем, замечал с иронией, что это “лучше, нежели быть названным вором или дураком”.
Нельзя не вспомнить, что с приходом Оленина в Академию перестали принимать крепостных. Запрет этот, хотя на первый взгляд и дикий, имел глубокое обоснование. Лучше всего это обоснование выразил сам Алексей Николаевич – в письме к Аракчееву, который высочайше недоумевал, почему его крепостным отныне не можно выучиться на рисовальщика. Ответ Оленина звучал поразительно. Алексей Николаевич считал, что гений художника возвышается только в личной свободе; что ради свободы, творческой и карьерной, он только и развивается. Возвращение же художника из Академии в крепостное состояние есть надругательство над этим возвышением, и тогда “по общей привычке русского народа, он начинает с горя пить…”
Впрочем, оленинские нововведения касались не всяких сфер. В частности, лучшие из выпускников,