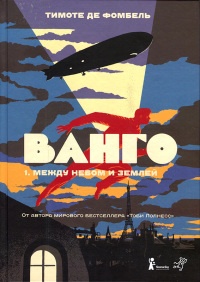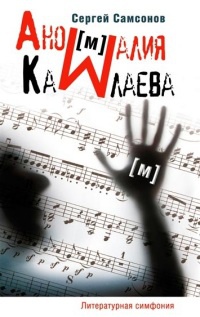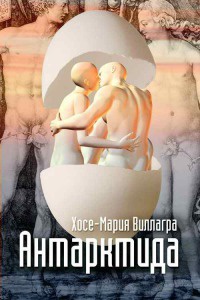Ознакомительная версия. Доступно 33 страниц из 164
Богун подбежал к свободной бойнице и, вскинув невесомый, как пушинка, автомат, заработал короткими очередями по скачущим огненным жалам. Тьма кишела визгучими розоватыми метками, трассы скрещивались, расходились, сшибались, разлетались колючими брызгами, исчезали во тьме, словно слишком глубокой и плотной, чтоб ее пропороть, погасали, прижавшись к земле… чертили по бетонным плитам борозды, непрерывно нашаривая в монолитном заборе заветные лунки и щелки, чтобы, с визгом ворвавшись вовнутрь, кусануть, разорвать, прострочить. Сотни пуль рикошетили, тюкали, порскали, прошивали пространство шириной метров в сто. Там, вот в этих ста метрах, клокотали, роились ореолы чужих автоматов, огневые еловые лапы врастопыр хороводились вкруг пулеметных стволов, и Богун еле-еле успевал их выцеливать, прибивать, затыкать… кучно били, жуки полосатые, метко, заставляя его то и дело отпрядывать от своей амбразуры, прижиматься к бетонной плите.
Кто-то дал три ракеты, и полоску земли, отчуждения наконец-таки залил ослепительный мертвенный свет: каждый камушек, каждую былку стало видно на белой земле, — и Богун заорал:
— Жека! Жека! Прямо стовп, злiва група! Безперервним! Коси iх! Не давай iм пiдняти голiв!.. Мирный! Мирный! Вправо пять — чагарник! Пулемет!
Мигавшие, как сварка, висячие лампады рассыпались на искры и погасли — остались только бешено сверкающие жала вдоль по насыпи, но Богун все орал, словно мог и во тьме видеть больше, чем все остальные, и могучий его бычий рев и горячая близость его коренастого, сильного тела успокаивали Порывая, подымая в нем радостную благодарность комбату и надежду на то, что Богун никуда не сорвется, не покинет его.
Вернулся страх, испытанный им накануне, когда они сами бежали вдоль насыпи к городу, слыша лающий хохот ополченческих «утесов», и он видел, как пули размером с человеческий палец выбивают парней рядом с ним, выдирая из рук или ног кровяные шматки, со змеиным шипеньем вонзаясь в щебенку и глину чуть левей, чуть правей от него, норовя размозжить, оторвать ему ноги, сковырнуть его, срезать, смести с этой страшно-чужой, бесприютной земли, если он не желает уйти с нее сам, подобру-поздорову… видел, как пацанов, вероятней всего уже мертвых, очередями разрывных толкает, ворошит, передвигает, чуть ли не перекатывает по земле, словно струи какой-то неистовой поливальной машины убирают весь мусор с дороги, размывают завал…
Пережитый им страх заставлял его жаться к комбату, обращаться к тому осязанием, мыслями, слухом, даже скашивать взгляд от прицела, проверяя, а здесь ли Богун… Сначала он тоже орал во всю силу, а теперь, подсогревшись общим криком и грохотом, чувством слитности с каждым своим, вырастая, прочнея, оттого что поблизости никого не убило, молча бил по клокочущим вспышкам, по теням и фигурам в трепещущем свете ракет, по указкам комбата, которых он ждал, как хлопка по плечу: «Я с тобой!»
— Няма, Немец, ко мне! — услышал он крик Богуна. — С пулеметом на крышу! Один прикрывае, другий за пулемет! Давайте, синки!
Сорвался за Нямой. Ближайший к ним светильник, на будке, был разбит, и сквозь сердце Артема разрядом, как из цоколя лампочки в пальцы, проскочила догадка, что по свету работают все. «Вот сейчас меня и…» — трепыхнулась ужасная, но как будто и вяло-привычная мысль. И Няма вдруг как-то не так побежал, замедлился, отяжелел — хотел, чтоб Артем обогнал его, что ли, и первым полез… то ли просто тяжел пулемет… присел под лестницей пожарной, почуял себя в островке безопасности, невидимым ни для кого, вцепился в железные поручни, полез с обезьяньим проворством…
— Давай! — крикнул сверху истошно.
Артем, надрываясь, толкнул пулемет, подвесил сошками за перекладину, полез, еще раз толкнул дулом кверху, почти дотянувшись до Няминых рук… и тут как затенькало, как сыпануло по крыше, и Няма, протянувший руки, с молитвенным лицом сорвался на него, загремел, провалился в решетчатый этот стакан, и Артем, потеряв все опоры, все поручни, ощутил потрясающий, садкий удар от падения наземь. Мозг задернулся черным туманом, и, не чуя уже ничего, кроме боли и страха перебитых костей, он заполошно задергался, заелозил ногами, по-червячьи вытягиваясь из-под необычайно тяжелого тела, не могущий столкнуть его, отвалить от себя. Еле-еле он выдрался весь, задышал во все легкие, набираясь впрок воздуха, словно Няма опять мог его придавить, и огромное время лежал на слепящем свету рядом с ним, понимая, что должен рвануться к нему, затрясти, борясь с непосильным омерзением к мертвому, как-то разом, уже без обмана догадавшись, что Няма убит.
Наконец он толкнулся и, сев на земле, склонился над оскаленным лицом. Няма весь уже закостенел, оставшись лежать примерно в той позе, в какой артист Ярмольник показывал цыпленка табака: руки согнуто вскинуты вверх, пальцы скрючены, одна нога подогнута под ляжку. В плаксиво приоткрытом рту виднелись передние зубы, за которые, кроличьи, Нямой его и прозвали. Один глаз почти что закрылся, другой без посторонней помощи закрыться уж не мог, остекленелый и смотревший как бы сразу во все стороны с какой-то смиренной тоской, но в то же время и с упорным вопрошанием, с какой-то величайшей, неизживаемой обидой и неверием, словно Няме еще предстояло понять что-то главное, словно только теперь он и начал допытываться: есть там, в смерти, хоть что-нибудь, — и, судя по обиде, ничего не находил.
Артем не передернулся — застыл, ничего не могущий ответить на Нямин последний вопрос и как будто бы сам захотев докопаться до вечной, неразгаданной тайны, глядя в этот оскаленный рот, где таился немой отголосок последнего вскрика и как будто бы даже готовность сообщить Порываю разгадку…
Он шевельнулся лишь тогда, когда в плечо вцепились чьи-то пальцы. Повел головой: вокруг него и Нямы стояли пацаны, разглядывая мертвого с огромным, животно-безотчетным любопытством и не пускающим поближе страхом заразиться. В первый миг он не понял, почему сразу столько ребят прибежало, почему так спокойно стоят, а потом с вязким скрипом дошло, что все кончено, что никто ни в кого ниоткуда уже не стреляет. И ему показалось, что все это: вылазка сепаров, минометный обстрел, беспокоящий плотный огонь из-за насыпи, перебежки на полную выкладку — было затеяно только ради единственной Няминой смерти, и теперь, когда Няма был сбит ополченческой пулей с площадки, принесен, что ли, в жертву, тут же все и закончилось.
— Що встали? Несiть його до АБК! По мiсцях всi пiшли, по мiсцях! — сказал над ними севшим голосом Богун, и Артему почудились нотки вины за то, что он, комбат, еще раз оказался не всесильным для своих бойцов, и для Нямы особенно.
Богуна не корежило то, что послал Порывая и Няму на почти неизбежную, оказавшуюся неминуемой смерть: надо было кого-то послать к пулемету, а иначе б сюда полетели ручные гранаты. Да и что теперь было крутить душу в жгут? Не один, так другой, не сегодня, так завтра. Власть над сотнями разных, особенных, единичных людей на войне — это уж невозможность жалеть никого и себя самого в том числе, а иначе какая ты сила?
Нет, он не был свободен от чувства вины, от щемящего, чуть не отцовского чувства неспособности быть всем защитой, но сейчас навалилось и давило другое. Нет, не то что он сам разбудил это лихо, поведя батальон в лобовую атаку на промку, хотя мог бы и дальше тихо-мирно держать эту шахту, отправляя вагоны с углем на заводы хозяина. Все равно через день ли, неделю ли генералы б забыли про бизнес, и решение лезть на Бурмаш все равно было б принято, и его, Богуна, батальон точно так же бы стал наконечником. Его хлопцы и сами рвались на Бурмаш: «Да мы только так их нагнем и отпялим, кротов тех слепых, шахтарiв», — и он их повел на промзону, отчасти и сам зараженный всеобщим возбуждением «мы сила!», которое кипело в них с Майдана, отчасти боясь заслужить их презрение, утратить свою абсолютную власть, если вдруг попытается их удержать. Пускай уже примут крещение, все равно ведь придется когда-нибудь, и уж пусть лучше здесь, с возможностью отхода на укрепленные позиции, чем в городских руинах, где стреляет каждый дом и где они начнут метаться, как бараны.
Ознакомительная версия. Доступно 33 страниц из 164