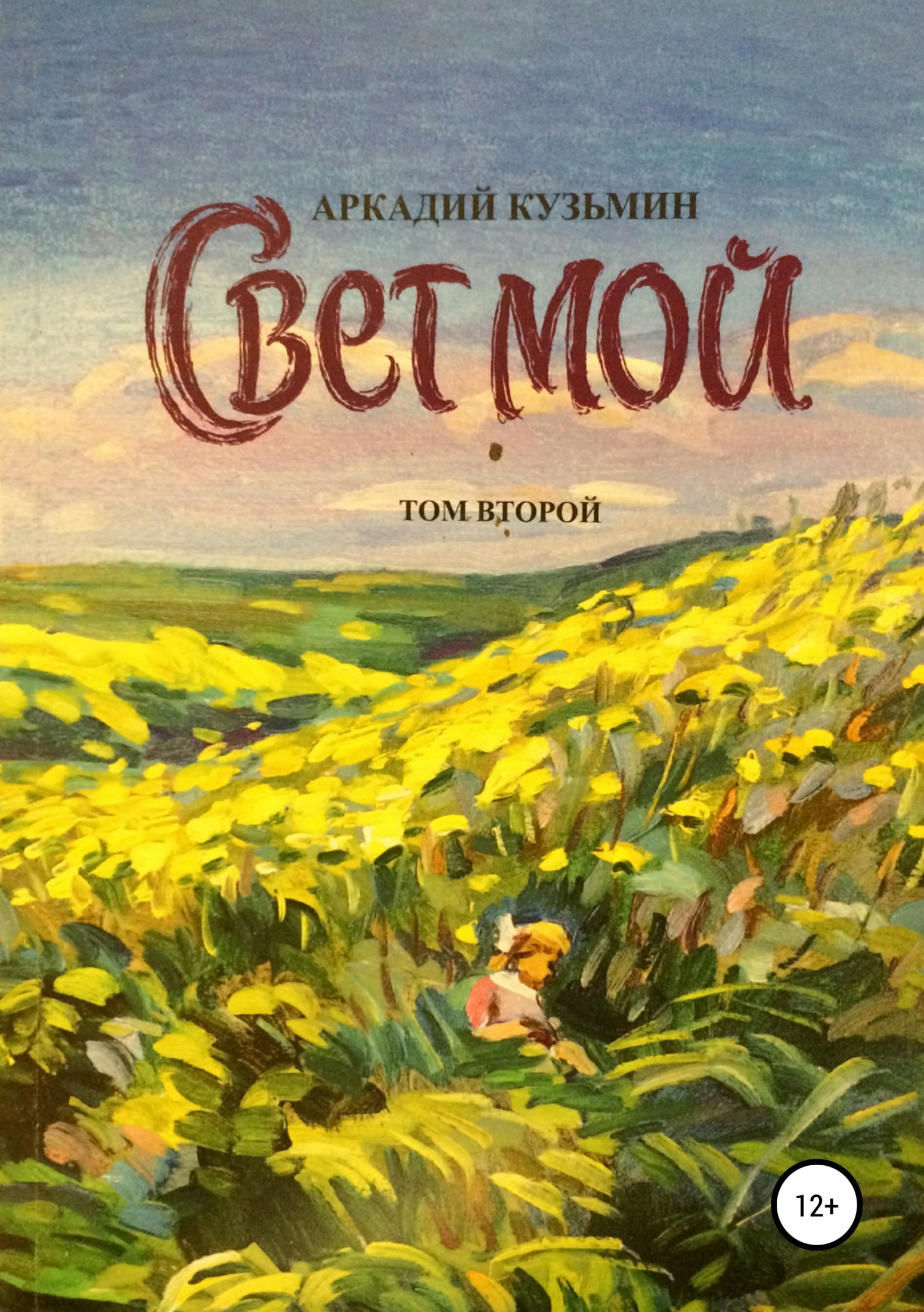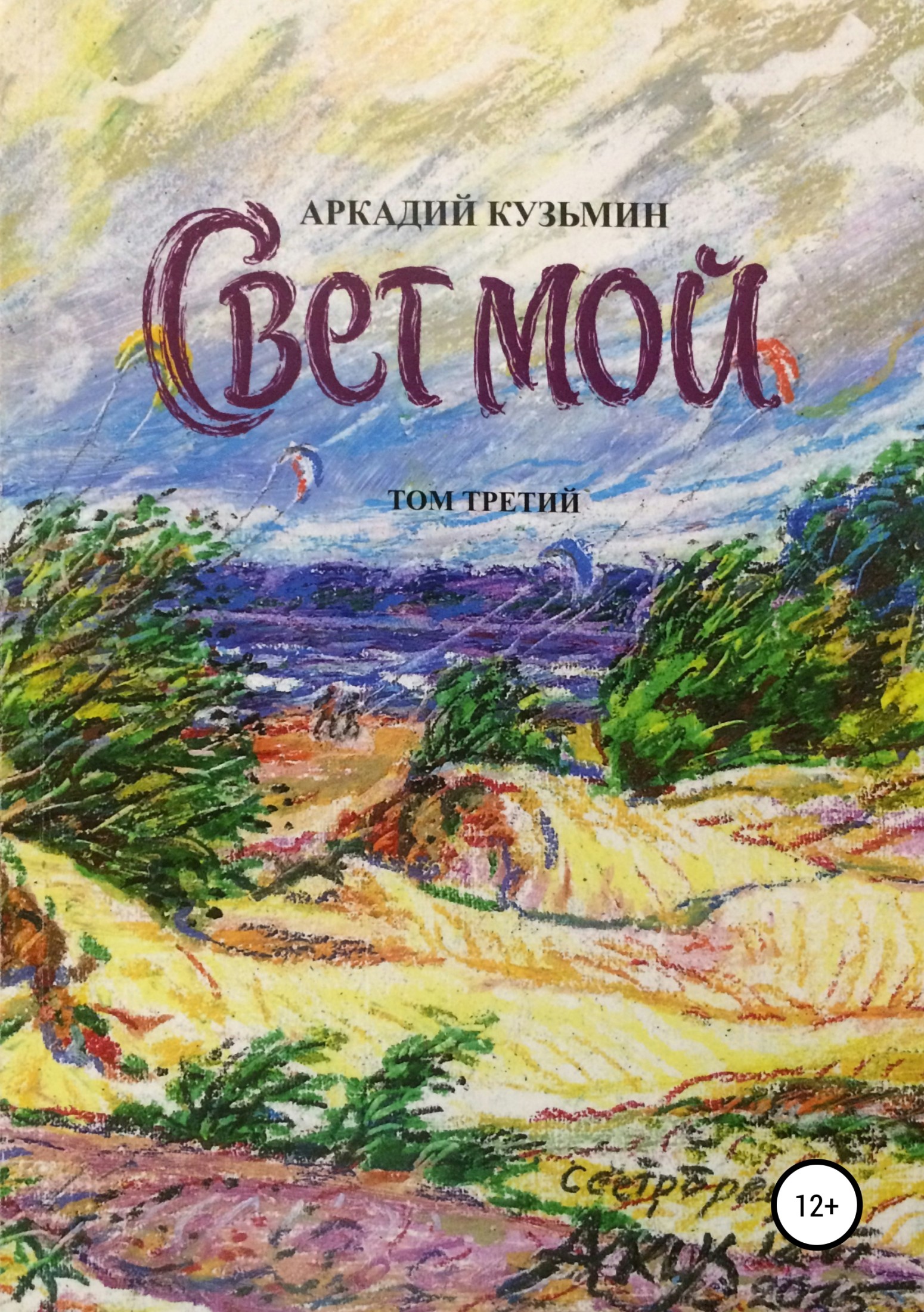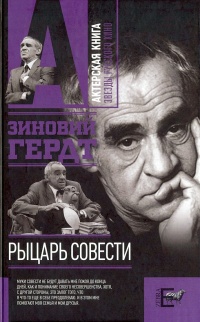высокую фуражку и поправив ее, разбранился с досадой.
Только удалился он с солдафонами, как с возмущением солдаты, поместившиеся на кухне, вдруг заговорили в один голос, обращаясь к хозяйке; они советовали ей не уходить с детьми из дома никуда – незачем. Офицер очень глуп. Куда ж он выгоняет маленьких? Он подумал?
Солдаты эти оказались австрияками, людьми, выделявшимися безвредностью и благожелательностью к русским, – об австрийцах уже расходилась среди нашего населения добрая молва, и поэтому все русские добрели тоже в своих чувствах к ним, взаимно проявляя симпатию, еще потому, что те, выходит, служили немцам подневольно.
Еще во всей живости Кашиным виделось и слышалось совсем недавнее едва отодвинувшееся.
– Fressen kalt! – Жри холодное! – В передних комнатах избы возбужденно кричат немецкие солдаты, ополчившиеся против квадратного с кабаньей челюстью солдата-громилы (кричат ему: нас двадцать человек, а ты тут один хочешь жить в раю!). И вот, гремя и катясь по половицам, летит прямо на кухню (видно, здорово он им досадил) вышвырнутый ими из топящейся лежанки его котелок с заледенелой кашей, или концентратом, а за котелком, огрызаясь на решительных товарищей, громыхает сам солдат, подымает его и исподлобья, тяжело глядит на детей. Готов всех сожрать.
Он сам напоролся на отпор со стороны своих собратьев солдат.
В первый же день поселения сюда он все ходил и вынюхивал, где что лежит и к чему его руки еще не приложены. Сбил замок на чулане, вытащил из него двухспальную кровать, поставил для себя, попыхтевши в одиночку, – и по-царски разлегся на ней. Он-то завоевал себе «жизненное пространство» в избе. Однако свои же возмущенные камрады, собравшись, единодушно кровать выбросили: она всем им мешала – впустую много места занимала. Страсти накалились: был вышвырнут и его котелок с пищей. Каково!
Но уже после этого громила вынужденно переселился в другую избу.
И тут выяснилось, что он, немец, попал среди австрияков – в этом была суть. Потому как немцы и австрийцы обыкновенно заедали друг друга, из-за чего и группировались в частях вразбивку.
Один из австрийцев, опасливо посматривая на дверь, ведущую в передние, куда всадилось две дюжины солдат – немцев, говорил, что война – нехорошо, война – плохо. Столько ведь она несет несчастья всем. Кому она нужна?
Анна знающе сказала, раскрасневшись от нечаянной участливости людей, задетая за живое:
– Если Гитлеру подраться нужно, – пусть один выходит и воюет кулаками сам. – Она зачастую уже приводила немцам этот убедительный аргумент. И те ничего. Отмалчивались или же поддакивали. Грустно и пугливо.
Второй австрияк сказал, что у него дома двое маленьких, спросил, где муж. Война? Ja, Ja. Наташа уточнила по-немецки: он – под Ленинградом. И сказала, что он прислал последнее – третье – в сентябре. Солдаты с пониманием и участливо слушали ее. Кивали головами: о, Ленинград! Очень хорошо! Но говорили, что там очень-очень трудно.
XVII
Потом было так. По-отцовски безбоязненная Наташа непритворно ужаснулась, когда с неизменным топотом и грохотом в избу (дверь настежь распахнули) повалила масса чумных, замотанных немецких пехотинцев, зеленый хвост которых еще колыхался за окнами. Наташа ужаснулась, сказала во всеуслышанье:
– Боже, сколько их! И куда же прут?! Точно овцы недорезанные… Со слепу…
Видочек у них, турнутых откуда-то горе-победителей, промороженных до костей (и зима-то тряхонула их), был действительно очень пришибленно-покорный, жалкий, весь трясучий.
Тогда еще осанистый офицер, заодно вошедший, словно подчеркнуто здесь отсторонился и, пропуская подчиненных, подогнал их жестом, с русскими словами:
– Ну, живей пошли, пошли, овцы недорезанные! – И сказал Наташе по-простому, не пугая: – Не мешает быть поосторожней, девушка. Вы очень молоды… – И покосился с завистью на белые валенки, надетые ею на ноги. Слишком забавным было у него лицо, выпуклое и продолговатое, как дыня: глаза уголками книзу опущены, а рот кверху.
И Наташа поблагодарив его:
– Спасибо! – тотчас язык прикусила…
Судя по всему, завоеватели еще рассчитывали, значит, здесь обороняться – основательно готовились к сражению. Анну прежде всего страшило возможное последствие всего, в том числе и распространение какой-нибудь заразы при таком-то скоплении и скученности вражьих солдат везде среди населения в совершенно антисанитарных условиях. Напрочь лишенные в своей армии санпропусков и бань, все немцы поголовно к этому времени завшивели; они безумствовали еще больше, заетые вшами и выведенные из себя создавшимся положением. В избе они без всякого стеснения, снимая с себя барахло, лупили «партизан кусачих» и вывешивали его вымораживать на мороз; все добротное, первосортное, тонкое и теплое белье – белые шерстяные нижние рубашки и кальсоны и серые вязаные шерстяные джемперы, сплошь усеянные, словно какой крупной желтоватой сыпью, зажиревшими вшами, – висело на бельевых веревках, протянутых на тычняке и кольях, в сенях, в коридоре и на улице.
Так дни беспросветные длились. Такое выпало хозяевам наказание.
Эти двадцать пять полусвихнувшихся и опустившихся постояльцев который день строили восточней деревни снежные и поосновательнее укрепления. Таскались с лопатами, топорами, кирками. В утренний час их выгонял на работу, покрикивая, заходивший мелкий желтолицый фертфебель. И стервенел на одного особенно трагикомического щупленького немца, копотуна. Тот жил молчком и отдельно от товарищей ел и пил и отдельно погружался (в присутствии ребятишек, жившихся в кухне) в процесс насекомоистребление. Он-то постоянно все терял и беспорядочно искал, собираясь по утрам: то карабин, то кинжал, то кепи с тесемками, то ремень с бляхой (со свастикой), то лопату, то перчатки. И из-за этого фертфебель, бледнея, взбулгачивался – заодно и на ребят, шипел: вы взяли! Признавайтесь! Партизаны?! Вот как! Пользовались теплом наших изб – и еще же во всем обвиняли походя.
Но видит бог, ребята ничьих чужих вещей не трогали, не прятали. До этого не опускались и ничем не соблазнялись – нет, не воры; правда, что касалось именно этот задохлика и мерзляка, позволяли себе лишь укусики. Тоже ведь заразы были. Мелкие пиявки. Только это было вынужденной обороной ведь… Так что позволительно…
Чаще к вечеру злосчастный солдат, стянув с себя все до пояса, надолго засаживался в кухне, на проходе самом (остальные копались чаще в передних комнатах), и сосредоточенно выискивал и давил вшей; он утыкался в белье наглухо: уж никого и ничего не замечал вокруг себя. И все противней становилось на него глядеть. А глаза не отвернешь – отвернуть-то некуда…
Антон, задетый мерзостью, подступался к нему и спрашивал, кипячась:
– Эй, немец, скажи, как тебя зовут? Как зовут?
– Gans, – бурчал копатель с недовольством увлеченного индивидуалиста, отрываемого от серьезного копания.
– У тебя Kleines Kinderist? Скажи!
– Ja, ein, Ist. – И Ганс, не глядя поднимал вверх один палец.
– А