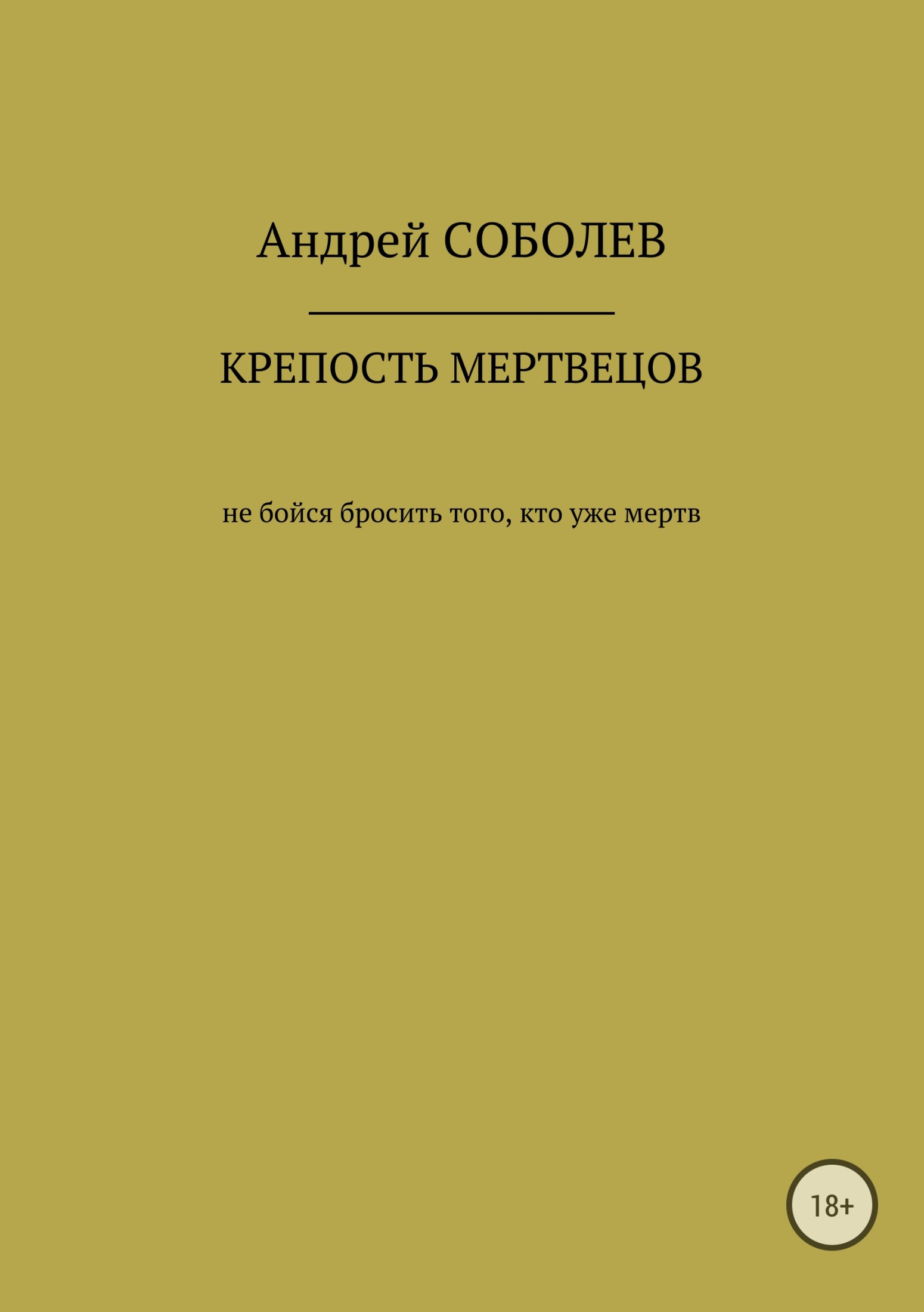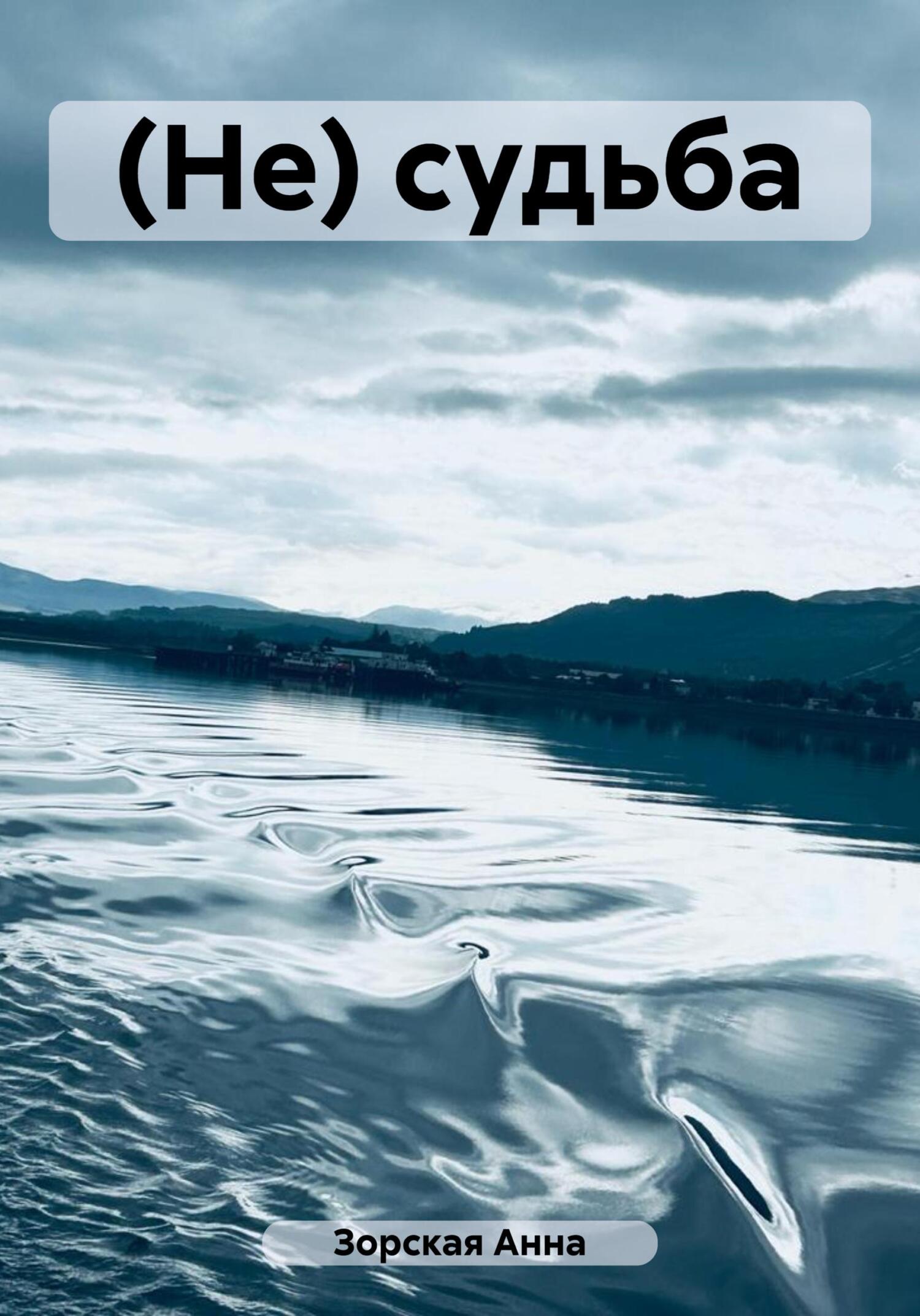запасов русской фаталистической мудрости (например, «перемелется – мука будет»), я занялась девочкой, которая как раз только что проснулась. Получасом позже Мамарина успокоилась уже достаточно, чтобы пойти с нами на эспланаду погулять, а уж когда мы зашли в кафе и купили себе по бокалу оранжада, она и вовсе вернулась в свое обычное состояние духа и, достав из сумочки зеркальце и быстро себя осмотрев, издала тот особенный звук, который означал одновременно и недовольство, и восхищение собой.
Вечером Викулин, одетый в дорожный костюм из светло-серой фланели и успевший где-то обзавестись черной тростью с рукояткой в виде обезьяньей головы (раньше я ее у него не видела), зашел к нам проститься. Мамарина к этому моменту была уже в совершенно ровном настроении – и попрощалась с ним хоть и учтиво, но достаточно высокомерно, сообщив среди прочего, что она чрезвычайно благодарна ему за все, что он для нее сделал, и что она вечно будет вспоминать его как второго отца (судя по кисловатому выражению его лица, этого можно было и не говорить). Пришел он не с пустыми руками: Мамариной достался замечательный шелковый платок с изображенной на нем райской птицей, мне – новая коробочка конфект, на этот раз, по счастью, свежих, а Стейси он принес маленькую игрушечную собачку с вислыми ушками и черным носиком пуговкой. Сейчас, когда все пропало, от всего прошедшего у меня уцелела только эта собачка – и вот в эти самые минуты она стоит на столе прямо напротив меня и смотрит с добрым укоризненным видом, как я дописываю одну из последних тетрадок.
8
Некоторое время после отъезда Викулина мы прожили в Гельсингфорсе. Каждый день, если не было совсем уж сильного дождя (что из-за морского климата здесь не редкость), мы со Стейси отправлялись гулять одним и тем же привычным маршрутом: по короткой, точь-в-точь петербургской улице, застроенной доходными домами в пять-семь этажей, разглядывая витрины лавок, мы доходили до маленькой русской библиотеки, где неразговорчивая, болезненно полная дама с большими коралловыми бусами переменяла мне книгу, после чего отправлялись в парк, где я, сидя на лавке, перелистывала какой-нибудь роман, покуда Стейси играла с другими детьми. Русских здесь было довольно много, но по обычной их заграничной настороженности, сильно разросшейся в последние месяцы, взрослые старались между собой без крайней нужды не разговаривать, дети же, словно ангелы, объяснялись как-то поверх языков – я не раз была свидетельницей того, как Стейси без всякого труда вступала в беседу со шведским малышом, не знавшим ни слова по-русски, что не мешало им понимать друг друга самым чудесным образом.
На обратном пути мы заходили в ближайшую овощную лавку, где маленький улыбчивый азиат, полностью лишенный примет возраста, проворно собирал наш обычный заказ, обязательно добавив от себя подарок для Стейси – или горсть стручков горошка, или свежую, тщательно отмытую морковку, которую немедленно можно было грызть, держа за зеленый хвостик, или хоть леденец. Знал он, кажется, все языки на свете: один раз я была свидетельницей того, как он объяснял что-то белобрысому жилистому англичанину, из той особенной породы, которая в девятнадцатом веке, расплодившись вдруг, как саранча в южной степи, окутала собой весь мир, а к началу нашего времени уже постепенно схлынула. Один из них, отбившийся от стаи себе подобных, оказался в Гельсингфорсе, где столкнулся с каким-то из типичных англичанских затруднений: например, не мог найти себе слугу, чтобы вычистить пробковый шлем, или просто заблудился в поисках собственного отеля – и наш мистер Танг объяснял ему дорогу своим певучим голосом на совершенно правильном, чистом, безукоризненном английском, так что даже его красномордый собеседник, привыкший, что весь мир к его услугам, вынужден был уважительно приподнять свою мохнатую бровь. Ожидая, пока этот разговор закончится (зеленщик, заметив нас, приветливо помахал своей узкой кистью), я размышляла о том, какое удивительное совпадение обстоятельств должно случиться, чтобы человек смог в полной мере использовать свой полученный от Бога талант, – еще хорошо (думала я), что нашего полиглота судьба забросила туда, где он может если не быть профессором языкознания, то хотя бы практиковаться в разных языках с пользой для своего дела: вряд ли его дарования пригодились бы ему, если бы он на всю жизнь остался у себя на Формозе или откуда он родом (спрашивать у него мне, конечно, было неловко). С другой стороны, вряд ли от хорошей жизни он пересек полмира и осел в печальной северной стране, где о далекой родине ему напоминают лишь апельсины и лимоны, появляющиеся в сезон в его лавке. «Высокородная Серафима Ильинична и юная Анастасия, – прервал он мои мысли, – что могу вам предложить?»
Если бы с этим же вопросом ко мне обратился Тот, Кто ведает нашими судьбами, я просила бы его оставить все как есть. Не могу сказать, что Гельсингфорс воплощал собой мое представление об идеальном месте: если уж совсем начистоту, то я предпочла бы вовсе не существовать, но из известных мне земных городов он был далеко не худшим. Мне нравилась отстраненная сухость местных жителей, влажный морской запах, тщательно оттертые булыжные мостовые, разлапистые липы на бульваре и дребезжание маленьких трамвайчиков, вяло ползущих по отполированным рельсам, утопленным между серыми камнями. Иногда мы вместо парка ходили в район порта, где рыбаки разгружали лодки со своим серебристым, крепко пахнущим, бессильно бьющимся уловом и вечно кружили чайки, оглашавшие воздух своими отвратительными криками.
Однажды здесь мы сделались свидетелями тяжелой сцены. Во второй половине лета в Гельсингфорсе стали появляться большие стаи новых птиц, которых я до этого никогда не встречала (покойный Лев Львович наверняка знал, каково их Божье имечко). Видом они отчасти напоминали обычных домашних гусей, разве что были чуть поменьше и другой расцветки – черно-серо-пестрой. Однажды утром, когда мы со Стейси вышли погулять в парк, они вдруг оказались сразу везде: расхаживали с деловитым видом по лужайкам, точь-в-точь курортники где-нибудь в Карлсбаде, но, в отличие от тех, время от времени подбирали что-то клювами с земли. Позже они освоились и как-то растворились в пейзаже, а еще спустя несколько недель вывели птенцов. Как и всякие детеныши (не исключая и человеческих), птенцы эти были гораздо симпатичнее их надутых гогочущих родителей: серенькие, с пухом вместо перьев и черными точеными, будто лакированными, клювиками.
Людей они совершенно не боялись, так что мы со Стейси частенько наблюдали за их хлопотливой общественной жизнью, очень напоминавшей мне заседание какого-нибудь русского комитета или кружка по интересам. Взрослые гуси с утробным курлыканьем