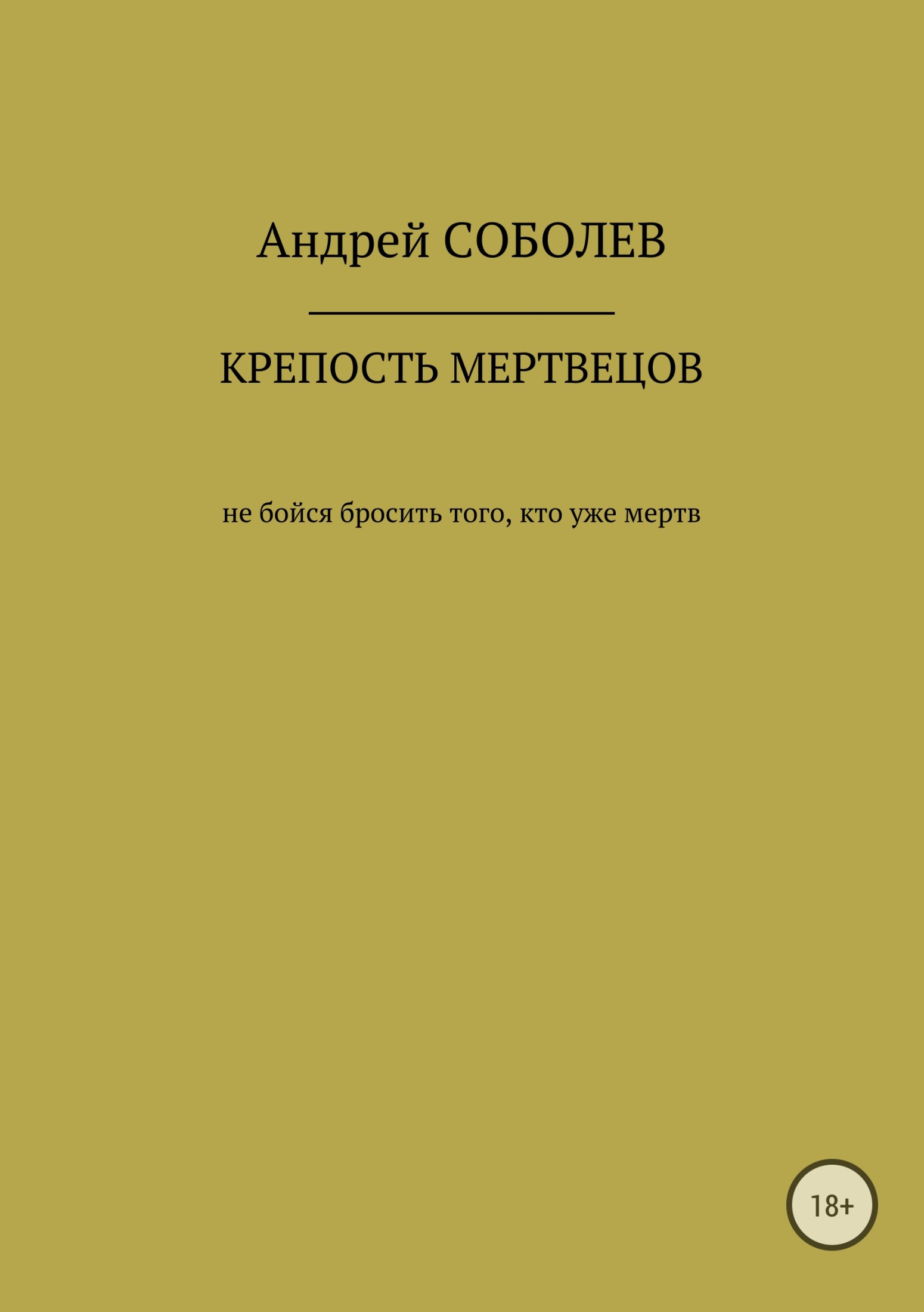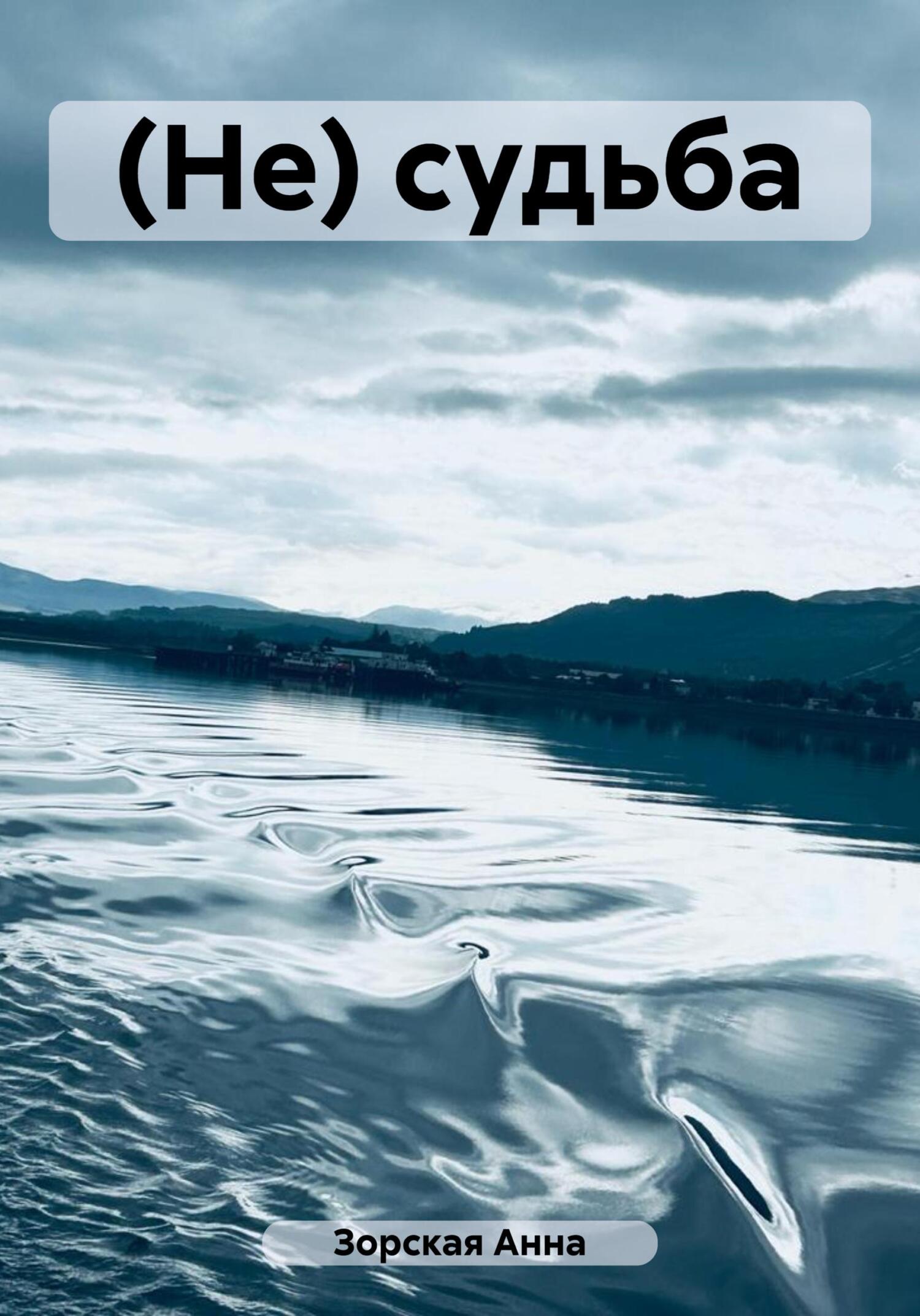прогуливались по свежей мураве, выклевывая время от времени из нее лакомые кусочки, а их попискивающие детки семенили кругом, также стараясь раздобыть какое-нибудь немудреное пропитание. Замечательно, что, при полном внешнем сходстве всех этих птенчиков (а собиралось их вместе до полусотни), их вздорные мамаши без всякого труда отличали своих – это было видно по тому, что время от времени они отгоняли прочь тех, кто случайно приблудился к чужой стайке. В этот день, сидя на лавочке близ порта, мы разглядывали их хлопотливую жизнь: я рассказывала Стейси про то, как некоторые птицы летят на зимовку за тысячи верст, как находят они дорогу домой, как каждый год, выведя и вырастив птенцов, собираются с ними в обратный путь, – и при этом сама наблюдала за копошащимися гусятами, восхищаясь точно дозированным сплавом хаоса и гармонии в их обыденной жизни. При внешней полной беспорядочности устройства их общества все в нем было твердо подчинено базовым вещам – чтобы все оказались живы и сыты. Приглядевшись, я заметила кое-что странное: один из птенцов как будто потерялся – он пытался пристать то к одной стайке, то к другой, но каждый раз взрослые гусыни с громкими криками отгоняли его прочь. Сперва я думала, что его собственная мать лишь ненадолго замешкалась и вот-вот найдется, но за те несколько минут, что я за ним наблюдала, она так и не появилась, а несчастный этот птенец так и продолжал в тщетной надежде метаться от одной группы к другой. Из-за печального собственного положения в мире я всегда с особенным чувством отношусь к таким эпизодам – но тут я даже не знала, чем бедняжке можно было помочь: разве что отловить и постараться выкормить его самостоятельно. И тут, в эту самую минуту, когда я прикидывала, как можно будет его поймать, в чем его нести и что скажет Мамарина, если мы заявимся домой с вопящим гусенком, в этот самый момент крупная белая чайка с желтым клювом спланировала вниз, схватила его своими когтистыми лапами и понесла прочь. Последнее, что я заметила, – вдруг обвисшее тельце птенца и два мощных крыла проклятой твари, уносящей его на верную погибель. И в эту секунду Стейси, видевшая все это вместе со мной, вскрикнула нечеловеческим голосом и забилась в каком-то истерическом припадке.
Странно, что она сразу догадалась, что произошло нечто непоправимое, и не оставила мне возможности легкомысленных уверток из тех, которыми обычно взрослые отделываются от горестного любопытства детей: «твой папа сейчас на небесах», «твоя кукла непременно найдется», «твоя кошечка вернется к тебе». Ее горе было абсолютно искренним и совершенно полным: уже потом я сообразила, что она впервые так близко столкнулась со смертью. Наверное, окажись на моем месте земнородная женщина, она каким-то недоступным мне чутьем нашла бы нужные для утешения слова, но я, признаться, была столь же подавлена увиденным – настолько неожиданным было это вторжение зла. Снова я почувствовала страшную хрупкость вверенной мне маленькой жизни, окруженной со всех сторон сонмами катастрофических опасностей, дремлющих до поры под внешне безвредными личинами: взбесившийся автомобиль, обрушившаяся кровля, какая-нибудь нелепая болезнь, убивающая, может быть, всего полсотни людей по всей земле – но где гарантия, что она не попадет в эту полусотню? Стейси успокоилась и только тихонько всхлипывала; меня еще немного трясло, но тоже постепенно отпускало. Помнится, больше всего меня поразило равнодушие окружающего мира – так же шли люди, дребезжали трамвайчики, большое облако ненадолго закрыло солнце и, повисев немного над нами, вновь двинулось прочь. Даже проклятые гуси, на которых я теперь смотрела со смесью злобы и презрения, точно так же копошились в траве, погогатывая – и ничто не напоминало о том, что только что из этой единой картины было изъято живое существо.
У меня, естественно, нет никаких амбиций относительно собственной персоны: странно было бы ожидать честолюбия от кинжала или молотка, а я представляю собой что-то в этом роде, только облаченное в живую плоть – слепое орудие высших сил, присланное на землю. Но наверное, даже кинжалу должно быть небезразлично, закалывают им злодея в ванне или выковыривают грязь из-под ногтей: так и во мне, где-то на периферии сознания, начинала позвякивать мысль – именно о том, как будет выглядеть мир, из которого буду изъята я. Евангелия учат нас тому, что нет незначащих вещей и незначительных деталей – даже пресловутый волос, который без Божьего соизволения не упадет с чьей-нибудь головы, даже несчастный волос что-то да значит – иначе не стоило бы тратить на него хоть миллионную долю секунды Его времени. Мое предназначение было для меня очевидно, и роптать по его поводу я никогда не стану, но отчего-то, по какому-то нелепому капризу, мне было до боли обидно, что без меня естественный порядок вещей продолжится точно так же; что никто, может быть, и не заметит, что на месте, где только что была я, возникнет вдруг пустота, подует некоторый инфернальный сквознячок, который быстро затихнет.
Именно в этот печальный день, вернувшись домой, мы обнаружили, что Мамарина вновь засобиралась в дорогу. Не могу передать, до какой степени эти пароксизмальные всплески, которые чем дальше, тем больше приобретали над нею власть, были мне тяжелы и неприятны: для иллюстрации момента скажу, что несколько минут я снова всерьез обдумывала возможность схватить Стейси и удрать. Сесть в порту на пароход, плывущий куда-нибудь в Любек, и раствориться там. Если подгадать со временем отплытия, то Мамарина начала бы беспокоиться только вечером того же дня, когда мы были бы уже где-нибудь в шведских водах. Допустим, она пойдет в полицию – беженка из России с сомнительным эстонским паспортом – и заявит, что ее дочь пропала вместе со своей крестной матерью. Наверное, сперва будут искать где-нибудь в больницах, потом… не знаю даже, что потом, но в любом случае вряд ли первым делом они начнут рассылать телеграммы по всем европейским городам с описанием нашей внешности. Уехать куда-нибудь в Швейцарию, купить там маленький домик в горах, как некогда собирался несчастный Лев Львович, и остаться там лет на десять-пятнадцать. Выезжать время от времени на ближайший ипподром, где играть по маленькой; выписать учебники для гимназического курса и учить Стейси дома самостоятельно… весь этот план, который воображение развернуло передо мной, как приказчик в лавке разворачивает штуку ситца перед купчихой, побледнел и съежился – я совершенно не могла представить, что я отвечу Стейси на вопрос о ее матери. Поэтому, собрав все смирение, я вновь завела свои скучные здравомыслящие речи – о том,