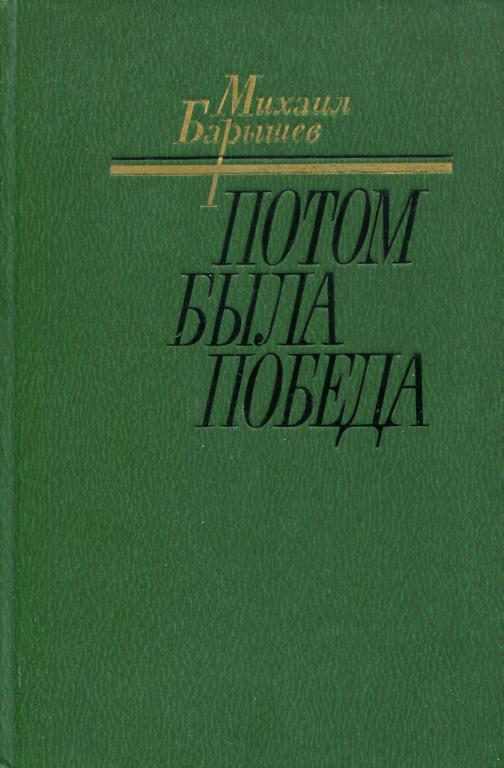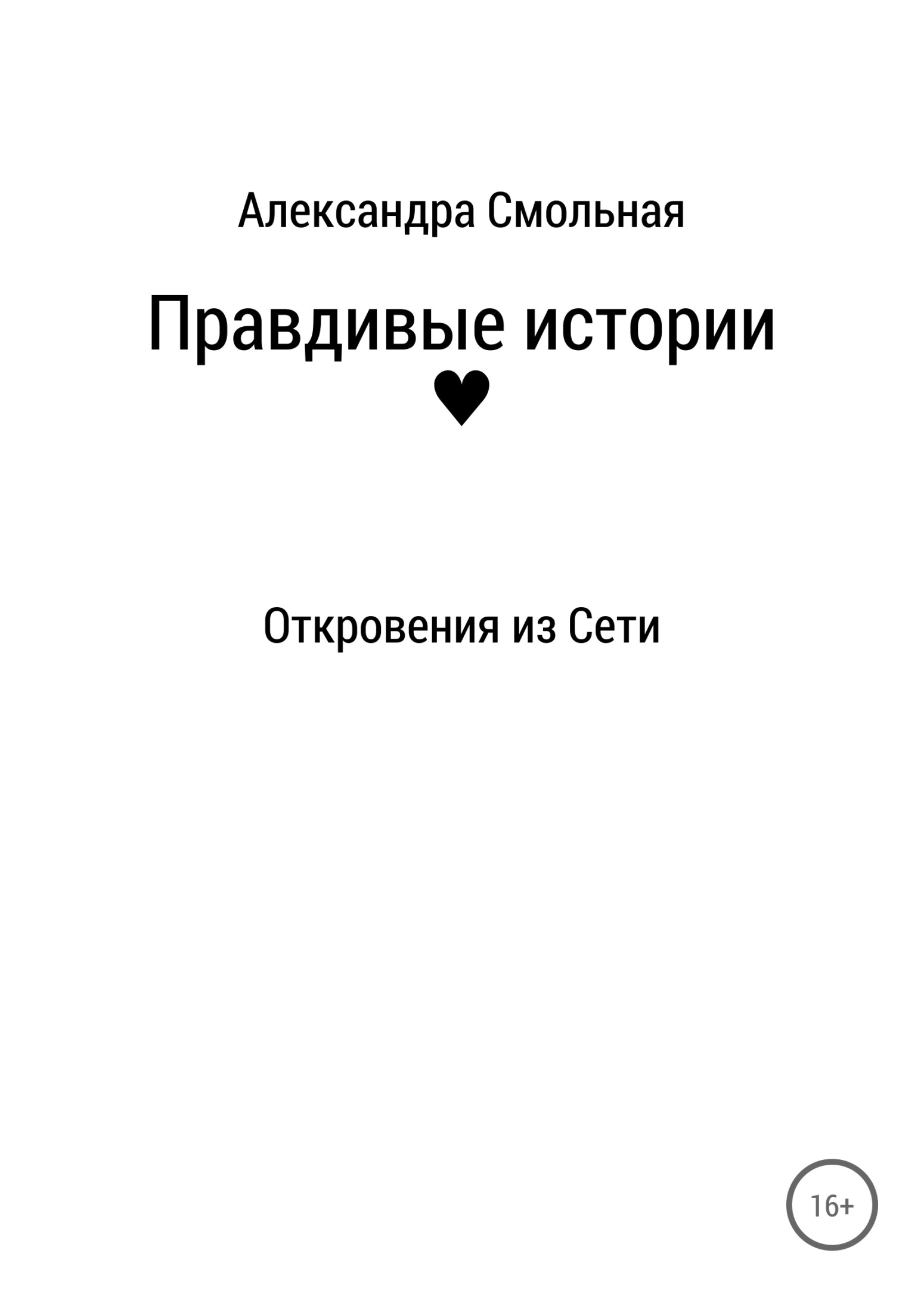стороне можно сена накосить: за пойменной чащей сырая луговина. Но это уж люди себя обманывают, чтоб спокойней, а однако ж не зря тут вода неподвижно стоит, тучи стелются низко и далеко, и тишина будто дыхание затаила — как подстерегает тебя: вот поскользнешься и упадешь в черную воду — и тогда все... Еще один дружок, лет пяти, остался лежать тут добычей у этой хищной, прозрачной насквозь, черной, нет, не простой воды — в самом безобидном месте: у берега, у мостков; мостки тут были тогда прилажены белье полоскать — бабы дуры, их ничем не проймешь, об стенку горох, хоть и схоронили в матроске мальчика, лишенного этой водой загадочного свойства жизни.
Он перебрался по скользким мосткам на пойменный берег этой таинственной стоячей воды, гроздья мертвецких, бледно-синюшных ягод тут росли на кустах — ими стращали друг друга, а сиреневые султаны каких-то роскошных цветов застыли среди топи и манят, манят, заманивают... — тьфу-тьфу, наваждение!..
Шел и дрожал с оглядочкой — забрался во владения гибельных сил.
Но вот и большая река, прошел по песчаному берегу — сразу отпустило: вырвался из заколдованной зоны. Вот и подуло, вот музыка донеслась — а там-то, там болотная тишь намертво губит все звуки, топит, заглатывает: видно, и в звуках тепло жизни, пища.
Вздохнул, расправил грудь, музыка доносилась из пионерских лагерей в бору — где-то там сейчас падчерица, как раз собирались съездить к ней в выходной... Теперь они съездят без него.
Когда подросла месяцев до восьми и начала что-то лепетать, важней всего для нее было, похоже, освоить священное имя сестры. Набирала воздуху и единым духом выпаливала:
— Тада! — и снова: — Тала! — и с восторгом ждала отзыва, а та благодушно (поддаваясь на любовь) ворчала:
— Во, опять то недолет, то перелет.
Поддавалась, а то ненавидела. Да и понятно: подросток, знает, откуда берутся дети, никакого сочувствия к причине их появления на свет не находит в своем разуме и должен ее, причину, ненавидеть. И самих младенцев тоже: они так близко стоят к ней, причине, так близко стоят, что дыхание их еще смешано с горячей влагой тайны, и ничего еще, кроме этого тяжкого наследия своего прошлого, младенцы не имеют.
— Фу, вонючая! — и сморщится, а мать сладко поет:
— Хоро-ошая! — и тянется лицом.
— Плохая! — сердится старшая.
— Хоро-ошая! — блаженно поет мать, а бедная маленькая хлопает глазками, как глухонемой, и живет свои дни с великим трудом, сворачивая их, как глыбы, тяжко и с плачем.
...Уж выросла чуть-чуть. Язык появился. «Ав‑ав». Еще такое волнистое «а‑а-а‑а» — спать, значит. И еще «аль-ляль-ляль» — это чтение и книга. Проснулась днем в коляске, а он стоял над нею, читал. Продрала глазки, небесно улыбнулась и сказала насмешливо:
— Аль-ляль-ляль...
Читаешь, мол...
И они смеялись вместе. Она — хрупким голоском...
Из пионерского лагеря репродуктор усилился, и донеслось заунывное:
Мы иде-о-ом в похо-о-оды
Весело и дружно.
Потому что зна-аем:
Все увидеть нужно.
Наглый обман почудился ему в словах песни, потому что так — «весело и дружно» — человек никогда не чувствует, всегда сложнее, а особенно ребенок (он ведь еще не привык жить как взрослый: экономно, без чувств); и ему представилось некое учреждение, в котором властные такие дамы-методистки, все как одна блондинки с пышными прическами, учреждают эти «весело и дружно», как прививки детям ставят, чтоб те подрастали, не чувствуя боли и горя, чтоб научились ничего не замечать, и страшно он разгневался на этих дам за такое вредительское упрощение жизни, а на дальнем берегу реки, в сумраке бора стояло печальное здание прошлых времен с горсткой беленых колонн посередине; здание было правдивое, не то что песня, внутри его лежали туберкулезные дети, и дом знал про это, чувствовал и потому держался сурово и просто, как тот мужчина на улице с дочерью — он жалел и берег детей внутри себя, он их не стыдился перед всем парадным светом, и это отражалось в его фасаде и в его беленых скромных колоннах.
А с обрыва, когда он поднялся назад, виднелись вдали неизвестные раньше холмы и на них строения. Видно, земля беспрестанно бугрится, шевелится, и вдруг выпирают какие-то города и дома, появляются на виду, потом пропадают, но никого это не касается.
Все это потихоньку смешалось с его отдельной судьбой, и она перестала быть отдельной; ничем он был не лучше, чтобы рассчитывать на иную долю, чем досталась другим.
Он вздохнул и примирился.
Дождь больше не шел, но капли изредка падали с намокших волос и досаждали лицу. Волосы у него были жесткие, прямые и распадались с макушки, подобно траве на болотной кочке. Это никогда не было красиво, зато дочке досталась золотая — серебряная головка от матери, и пусть, пусть они теперь живут сами, без него.
Чемодан невредимо стоял на остановке, смеркалось, люди все разъехались и уже, наверное, обсохли у себя дома.
Какая-то молодка строго сказала:
— А, так это ваш?
Лучше бы его сперли, чтоб не помнить, что нет больше дома и дочки, а эта еще будет сейчас отчитывать: мол, что же это вы, бросаете без присмотра... — у, бабье! — он напрягся, палец вставил в кольцо гранаты: сейчас она произнесет свое поучение, а он дернет за кольцо и подорвет ее к чертовой матери вместе с собой — себя не жалко ради хорошего дела.
Он заслонился от нее спиной, не ответив, и она отошла, пробормотав: «Извините...»
Он решил взглянуть на нее. Путь его взгляда пролегал понизу, асфальтом, она, слава богу, оказалась не в босоножках: безобразие (а он сейчас не верил ни во что, кроме безобразия) ее ступней было милосердно укрыто от глаз кроссовками. Еще на ней были вельветовые брюки и замшевая куртка, а в руке дипломат, и все это было такое мягкое, удобное, такое все коричневое... такое все...
Она тихо прохаживалась поодаль, но рано или поздно ей пришлось повернуться к нему лицом. Стало тут ему совсем грустно, потому что у нее было смуглое пригожее лицо. Потому что он увидел: она особенная, таких мало, они нужны всем, но на всех не