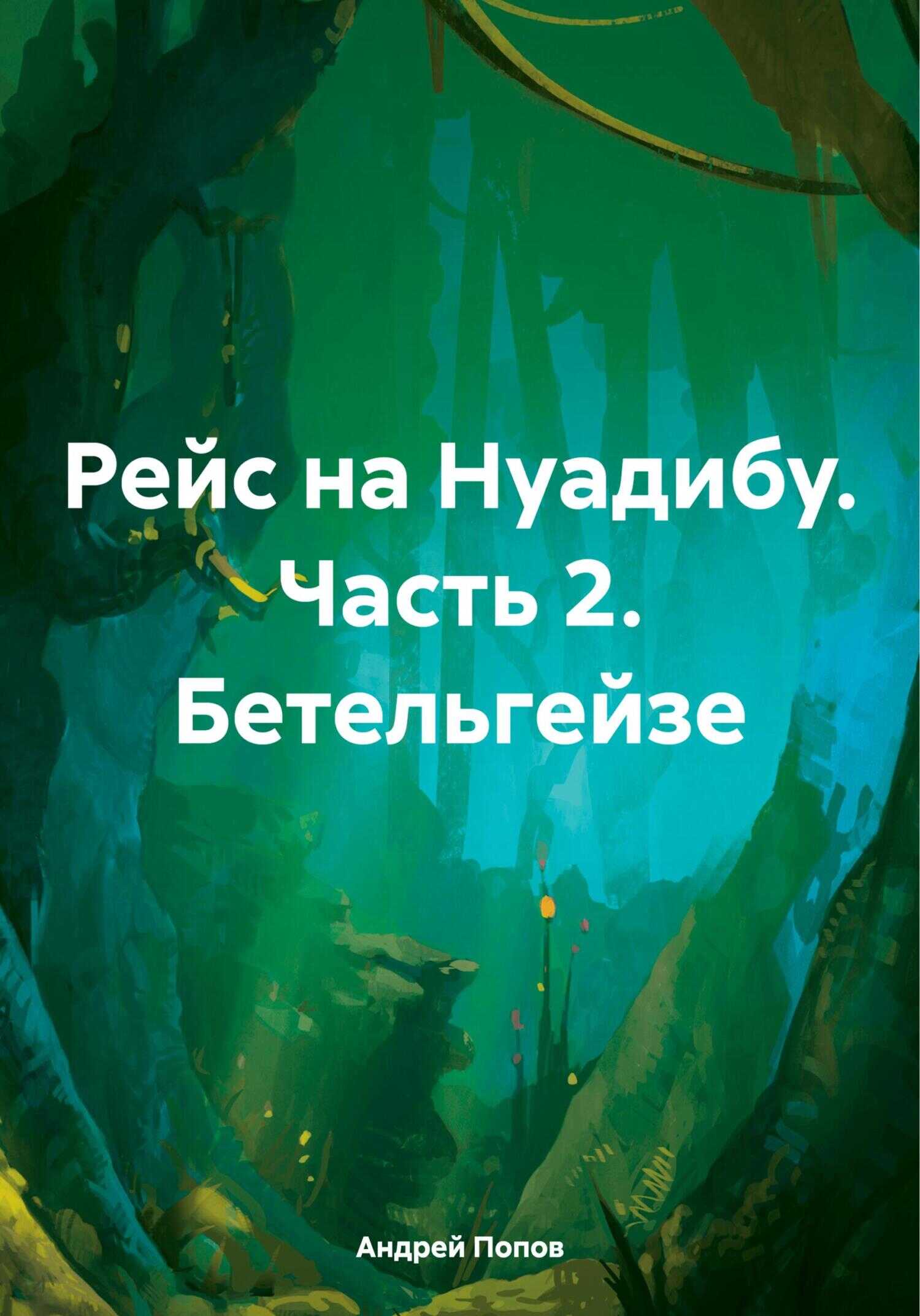проклятый… Надю-то не урони.
Ночь предстояло провести на вокзале: говорили, что в нескольких местах бомбами разрушило путь. Говорили и другое: спешно на вокзал прибывают воинские составы. Отъезжающие волновались, верили и не верили. Аграфена Егоровна неожиданно обрела свое обычное спокойствие и не вмешивалась ни в какие разговоры.
Надю уложили на скамейке, соорудив ей из пальто нечто похожее на постель, а сами, за неимением места, прикорнули на чемоданах.
Горело несколько затененных колпаками лампочек, было тепло, и люди, намучившись за день, спали, где придется.
Наденька всплакнула во сне, как бы простонала, затем еще и еще. Катя склонилась над девочкой, пробуя утешить, взяла на руки. Но Надя не переставала плакать и бессвязно лепетать «ма-ма», не узнавая ее.
Кончался второй день, как Катя уехала с завода, и ей пора было являться на работу. Она дозвонилась Седову в цех.
— Провожай до конца как следует, — сказал он ей. — Нина тут на твоих работает, понимаешь?
Катя не понимала и решила, что Данила не хочет ее расстраивать. Но делать было нечего, и она, по примеру бабки, старалась быть спокойной.
К ночи объявили посадку. Все засуетились, стали напирать. У дверей началась давка.
— Помоги, сынок, — попросила бабка красноармейца и передала ему чемоданы.
— Вот не взяла носильщика, поскупилась, — упрекнула ее Катя.
Аграфена Егоровна промолчала, роясь в своем кошельке.
— Возьми-ка, — сказала она бойцу, подавая сторублевую бумажку.
— Куда мне так много! Ничего не нужно…
— Бери, бери, мало еще, мы перед вами на всю жизнь в долгу, — сурово заключила бабка.
Их вытолкнули на улицу в густую, холодную после помещения, темноту. Была тревога. Враг сбрасывал осветительные ракеты. На миг из темноты возникали люди, телеграфные столбы, залитые неестественным матовым светом. Зенитчики с неистовством расстреливали ракету, и она, не успев во всю силу разгореться, огненным бисером осыпалась на землю.
— Сынок, сынок, — кричала бабка бойцу, — не отставай от нас!
Катю вдруг кто-то толкнул сзади, и она с дочкой на руках, потеряв равновесие, упала на коленки, но тут же вскочила, не чувствуя боли. Мысль о том, что они могут быть раздавлены бегущими, придала силы.
В вагоне, набитом до отказа, люди в темноте не узнавали друг друга, кричали, плакали, теряли вещи.
Работая локтями, красноармеец протолкнул Катю к свободной лавке и пошел назад, чтобы выручить застрявшую в тамбуре бабку.
Неожиданно тронулся поезд. У окна, освещенного трепещущим светом прожектора, со сдвинутой на перебинтованной голове пилоткой, махал рукой и грустно улыбался их единственный случайный провожатый. Катя показывала ему знаками, что она не уезжает, ей нужно выйти, а он, не понимая, все махал и махал, желая счастливого пути. Чем-то неотразимо родным и горячим повеяло на Катю от его бескорыстного участия…
Воспользовавшись замедленным ходом поезда, наскоро попрощавшись с дочкой и бабушкой, она наконец соскочила на высокую насыпь.
Синий огонек последнего вагона все удалялся и удалялся от нее, потом совсем скрылся.
Аграфена Егоровна, устроив Наденьку, села поудобнее сама. Поезд, отъехав от города, остановился, пропуская встречные составы.
— Теперь до рассвета задержимся, — сказала проводница. — Спите спокойно, разбужу, когда нужно.
За те два-три часа, что Аграфена Егоровна вздремнула в вагоне, она успела побывать в своей родной деревеньке Каповке на песчаном берегу Волги и босоногой девушкой с коромыслом на плече спуститься к реке по воду.
Гудел в отдалении белоснежный пароход с нарядной публикой на палубе, веерообразные волны от него взбегали на песок и снова отходили, замочив Груне ноги.
Домой нужно было подниматься по вьющейся вверх тропинке среди кустов, деревня стояла высоко, окна исправных изб, крытых дранкой, а то и железом, смотрели на Волгу.
Груню нельзя было назвать красавицей: ниже среднего, скорее низенького роста, но зато фигуристая, «с перехватом», как говорили жительницы деревни, с приятным румяным лицом и толстой косой, — она причислялась молвой к «славенкам» — завидным невестам.
В многочисленной семье ее, как почти и во всех других избах, женатые сыновья жили под опекой батюшки, не делясь, а дочерей прочили на «выданье». Семья Груни слыла с достатком, приданое за ней давали хорошее, что тоже помогало девушке быть в «славенках».
Летом и ранней осенью в разгар крестьянской страды, свадьбы не игрались. Зато зимой на посиделках в избе зажиточной вдовы, к рождеству и масленице сговаривались сразу несколько пар при участии сватов.
Отец — степенный, тихий человек, не стал бы неволить Груню выходить замуж по его выбору. Но его слово было законом в семье, не только по праву главы, но, главным образом, потому, что оно во всех случаях оставалось разумным и справедливым. Вот почему Груня давно согласилась про себя выйти замуж за того, на кого укажет тятенька.
И все-таки она обильно поплакала, следуя воле отца, — уж очень жалко ей было покидать Волгу и переезжать в чужую деревню с единственным прудом, где вольготно чувствовали себя лишь утки да гуси.
Деревенские богатеи поразились выбором Груниного отца, они и сами были не прочь породниться с ним, А тут другая деревня и дом без достатка и без хозяина: вдова бедует с тремя сыновьями! Двадцатилетний Алексей Ермолов старший в ней. Парень, он, правда, видный, грамотный, не трубокур, не пьяница и в отхожем промысле, — а жили в том Аферове, как и в Карповке, все сплошь портные, — слывет умелым мастером.
Груня пришла в дом первой снохой, и вся женская работа по семье и двору легла на ее плечи, будто не жену — работницу взяли. Мать мужа оказалась женщиной ревнивой, не хотела уступать своего влияния на сына и выставляла перед ним молодую жену в невыгодном свете.
Зимой в избе холодище, не то что в отцовской обихоженной, дровишки под навесом на счет, а тут еще каждую стирку свекровь требовала полоскать в проруби.
Навещал выданную дочь грустный тятенька и виноватыми глазами смотрел на свою Груню.
— Негоже так, Алексей Иванович, молодой бабочке надрываться, — не выдержав, как-то стал он пенять зятю. — Она вон теперь сама мать. Не побоюсь ни стыда, ни пересудов, — заберу ее домой, не выдерживает мое сердце!
Груня заплакала, убежала за ситцевую перегородку, больше всего боясь при свекрови показать свои слезы.
Алексей смутился. Тестя он уважал, верил ему, а жену любил, — нужно было что-то делать. Открыто высказать свое неудовольствие матери он не отважился, но пообещал Груне, что как только женится средний брат, а свадьба уже сговорена, они уедут из деревни в город. Хватит ему по деревням мыкаться с аршином и ножницами, он попробует брать заказы на дом, и тогда жена сама будет хозяйкой!
Вскоре плакала уже не