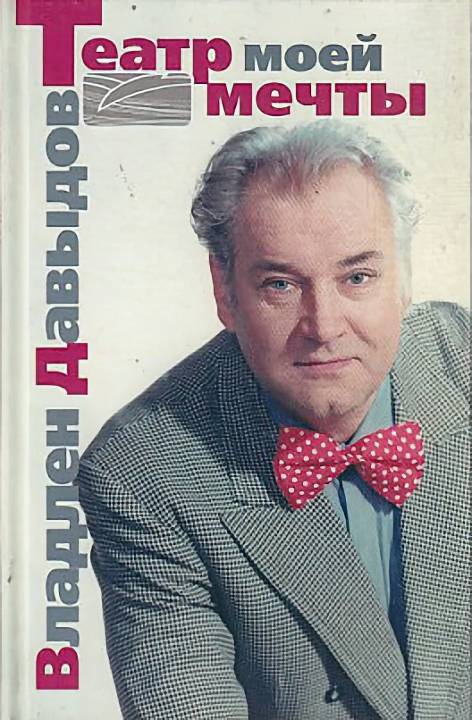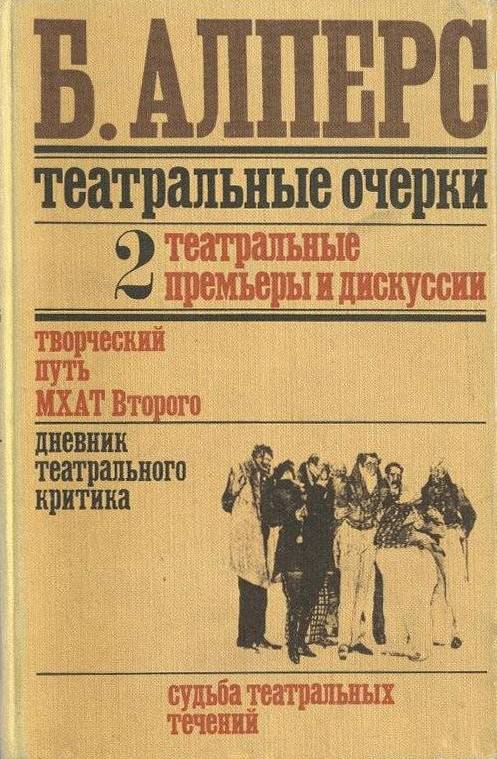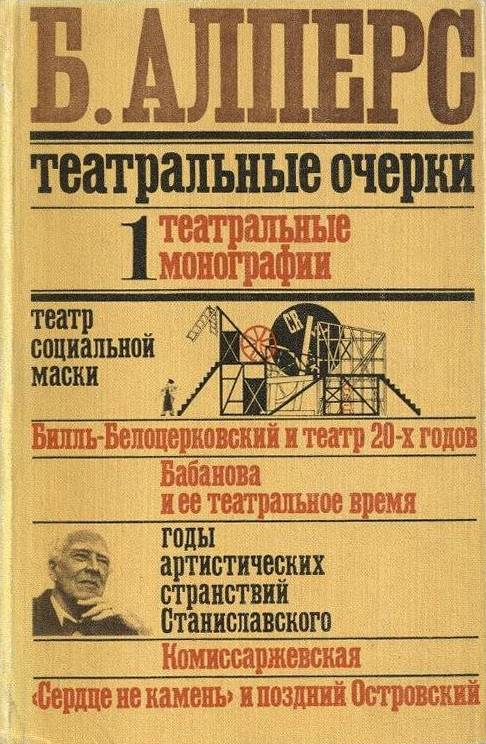возник в результате моих усилий постичь, почему Оливье является величайшим из актеров.
СМЕЛОСТЬ. Среди личных качеств, создавших легендарный облик Оливье, на первом месте стоит смелость — не физическйЯ смелость, необходимая для отчаянных акробатических трюков, а смелость, которая требуется для того, чтобы принимать собсвенные решения и никогда не выбирать самый надежный и безопасный путь. Смелость, невзирая на страх перед критиками, в канун премьеры бросить вызов пуристам и сыграть классического героя наперекор традиции. Смелость заняться постановкой грандиозного фильма, играя в нем главную роль. Смелость взяться за огромный, изнуряющий образ типа Отелло, когда ослабели и выносливость, и память, и воплотить его так смело и своеобразно, как только можно себе представить.
Ральф Ричардсон сравнивал актера, берущегося за прославленные классические роли, с жокеем. ”Ты видишь перед собой знаменитую лошадь, на которой ездило множество великих наездников. Несмотря на все возможные приготовления, вседа остается двадцатипятипроцентная вероятность, что ты не совладаешь с ней на скаку. Ты понимаешь это и боишься. Профессионалом становишься, когда привыкаешь к страху. Принимаешь страх”. Оливье не только принимал страх, но и увеличивал риск во много раз.
Без подобного бесстрашия и самобытности Оливье никогда не стал бы той уникальной звездой театра, какую мы видим в нем сейчас. Личная смелость — отличительный признак гения, присущий воистину бессмертным деятелям сцены. Ею обладал Кин — дерзкий и плотский Яго, шокировавший ортодоксов, черноволосый Шейлок, бесстрашно показанный живым человеком, а не безжалостной карикатурой. Случалось, его жестоко поносили за подчеркнутое неуважение к тексту; в том же самом упрекали и Ирвинга. Критик Генри Артур Джонс ссылался на ”обыкновение и метод Ирвинга… извлекать величайшие эффекты не из или с помощью текста и очевидных намерений его автора, но из собственных дополнительных находок”.
Так же обстоит дело и с Оливье. Рискуя быть распятым критикой, он предлагал неожиданные, но всегда ясные трактовки — самого сильного Гамлета, самого гордого Кориолана, самого страдающего Макбета, самого демонического Ричарда Ш, самого черного, негроидного Отелло. Рецензенты неизменно находили в его исполнении какие-нибудь достоинства, порой громили в пух и прах, но равнодушными не оставались никогда. Его успех подтверждает любые поговорки, сложенные на тему о том, что наступление — лучший вид обороны и что счастье улыбается храбрым.
ИНТУИЦИЯ. В своей творческой жизни Оливье нередко действовал в духе крупно ставящего на скачках игрока, который, презирая явного фаворита, идет на риск, полагаясь только на чутье: если повезет, его ждет большой выигрыш, а при провале не грозит позор. Как и классный игрок, он должен в известной мере рассчитывать на интуицию; и, за исключением нескольких неудач вроде “Ромео и Джульетты” 1940 года, интуиция Оливье оказывалась в решающие моменты необыкновенно точной. Он способен чувствовать время. Однажды он пояснял: «За “Генрихом V”, снимавшимся в годы войны, стояло желание сделать патриотическую картину. А в “Ричарде III” мною двигало стремление ответить интересам тогдашнего зрителя, показав ему маньяка, в котором было что-то гитлеровское». Много лет спустя он мгновенно откликнулся на перемену климата, выступив в пьесах Осборна и Ионеско. Он не превратился в анахронизм, в отличие от сэра Дональда Вулфита, выдающегося виртуоза и блистательного солиста, большей частью остававшегося вне требований моды. Оливье, как правило, демонстрировал великолепное чутье, угадывая, в каком направлении будет двигаться театр, и не боялся действовать в соответствии с этими догадками.
ЗРЕЛИЩНОСТЬ. Всю жизнь страшась превратиться в “старую шляпу”, Оливье избежал этого благодаря своей способности шагать в ногу со временем и даже впереди него. Его долгая жизнь на сцене связана также с присущим ему чувством зрелищности. Особенно наглядно это проявляется в его пристрастии к ошеломляющим физическим трюкам, таким, как кувырок с лестницы умирающего Кориодана, которого в более позднем варианте вешали за ноги на манер Муссолини; как катание по полу инвалида в “Инспекторе манежа”, эпилептический припадок в “Отелло” и многие другие памятные находки. Уже разменяв шестой десяток, он не мог противиться соблазну сорвать аплодисменты своей физической удалью: в последнем акте “Долгого путешествия в ночь” забирался на стол и затем легко спрыгивал вниз, изящно приземляясь на цыпочки.
Главная цель зрелищных эффектов Оливье — удивить, изумить зрителей, заставить их быть начеку, чтобы расслабленное, полуотключенное состояние не вызывало у них бессознательной уверенности, будто им известно, что будет дальше. Он действует и голосом, и телом. Однажды у него спросили, что делает актера великим. “Умение заставить публику поверить в твои достоинства,— ответил он.— Много лет назад Ивонн Прентан рассказала мне о совете Шаляпина никогда не делать того, чего ждет от тебя зритель. Надо постоянно предвидеть, на что настроена аудитория, и делать наоборот… Да, существует определенное стремление к эффекту, хотя говорить об этом проще, чем показывать… Я во многом полагаюсь на ритм. Мне кажется, в этом я действительно что-то понимаю — как использовать ритм, смену скорости, смену времени, смену выражений смену темпа, когда пересекаешь сцену. Заставляйте зрителей удивляться, кричите, когда они этого не ждут, держите их в напряжении — каждую минуту будьте другим. Кроме того, надо точно знать, когда именно на них наброситься — в этом месте такой-то сцены, в этом месте такого-то акта; где слабое звено в сплетенной автором цепочке?.. В чем состоит главная задача актера? Тормошить публику и не дать ей уснуть, затем проснуться и уйти домой с ощущением впустую потраченных денег”.
ГОЛОС. Многократно высказывалось мнение, что Оливье неспособен читать стихи, что он не чувствует архитектонику пространных монологов. Другие же утверждают, что он преподносит поэзию тоньше любого иного актера. Выбрав единственную строку, которая кажется ему эмоциональным центром, он умеет отделить ее от остальных и чуть уловимой переменой темпа и интонации мгновенно зажечь ею факел тех ассоциаций, что глубоко отзовутся во внутреннем слухе и прольют свет на целый мир переживаний и чувств. Так, например, в “Макбете” слова “круг друзей” стали красноречивой струной, которую искусно задели для того, чтобы показать ни с чем не сравнимую, мучительную трагедию жизни, проведенной без любви. Как сказал Колридж о Кине, наблюдать его — значит “читать Шекспира при вспышках молний”.
В то же время он действительно начинает тараторить в тех длинных шекспировских монологах, где мелодика значит больше слов, и, по его собственному признанию, чувствует себя неловко в лирических ролях. (“Это все тот же старый спор между Действительным и Прекрасным. Я не очень верю Китсу, когда он говорит, что Красота есть Правда, Правда — Красота. Я твердо стою на ногах лишь в том случае, если стараюсь изобразить то, что реально. Мне хотелось бы увереннее