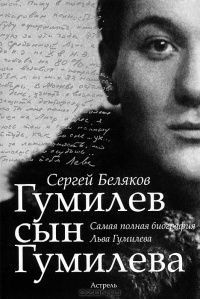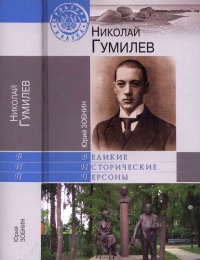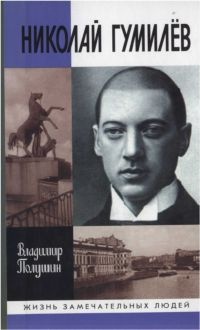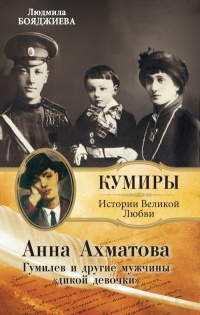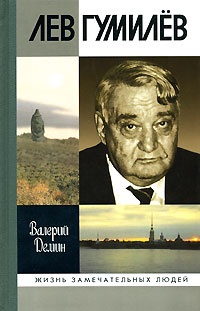В кругах, близких к акмеизму, чаще всего произносятся имена Шекспира, Рабле, Виллона и Теофиля Готье. Подбор этих имен не произволен. Каждое из них — краеугольный камень для здания акмеизма, высокое напряжение той или иной его стихии. Шекспир показал нам внутренний мир человека; Рабле — тело и его радости, мудрую физиологичность; Виллон поведал нам о жизни, нимало не сомневающейся в самой себе, хотя знающей все — и Бога, и порок, и смерть, и бессмертие; Теофиль Готье для этой жизни нашел в искусстве достойные одежды безупречных форм. Соединить в себе эти четыре момента — вот та мечта, которая объединяет сейчас между собою людей, так смело назвавших себя акмеистами.
Интерес к Виллону (то есть Вийону) мог быть инспирирован Мандельштамом, написавшим о нем свою великую статью еще в 1910 году — в доакмеистический период, девятнадцати лет от роду. Имя Готье в этом ряду звучало смешно для всех, кроме Гумилева. Нежная любовь к французскому поэту исказила его чувство историко-культурной перспективы.
Статья Городецкого, по свидетельству Ахматовой, вызвала смущение даже у Маковского, но Гумилев настоял на ее помещении. Он уже слишком тесно связал себя с автором «Яри» — пути назад не было.
Борьба между акмеизмом и символизмом, если это борьба, а не занятие покинутой крепости, есть прежде всего борьба за этот мир, звучащий, красочный, имеющий формы, за нашу планету Землю… После всех «неприятий» мир принят акмеизмом во всей совокупности, красочности и безобразии. Отныне безобразно только то, что безобразно, что недовоплощено.
Зато Городецкий не останавливается перед личными выпадами против бывших друзей, утверждая, что «ни Дионис Вячеслава Иванова, ни «Телеграфист» Белого, ни «Тройка» Блока не оказались созвучными русской душе». Им противопоставлялся Клюев, «сохранивший в себе народное отношение к слову как к Алмазу Непорочному» («Вяло отнесся к нему символизм. Радостно принял его акмеизм»).
Городецкий и позднее выступал (вольно или невольно) в роли «провокатора». Например, Гумилев, желая, может быть, смягчить конфликт, помещал в четвертом номере «Гиперборея» доброжелательную рецензию на «Нежную тайну» Иванова. В том же номере, рядом, появлялся грубый выпад Городецкого против ивановского «мистического доктринерства».
Что сближало Гумилева с этим человеком? Ведь в те годы они не только вместе возглавляли акмеизм, но и дружили домами — с Городецким и его женой Анной Александровной, полнотелой красавицей, которую муж со свойственным ему тонким вкусом называл Нимфа. Гумилев был в некоторых отношениях вечным гимназистом. Городецкий — тоже. Только Гумилев был гимназистом добрым, храбрым и умным, а Городецкий — довольно пакостным мальчишкой. И все же по внутреннему возрасту они друг другу подходили.
Третью теоретическую статью — «Утро акмеизма» — написал Мандельштам. Она не была своевременно напечатана и увидела свет лишь в 1919 году в нарбутовской воронежской («бывают странные сближения») «Сирене». Мандельштам приходит к акмеистическому принципу самоценности вещных явлений с неожиданной стороны — через футуристическую (казалось бы) идею «слова как такового»:
Сейчас, например, излагая свою мысль по возможности в точной, но отнюдь не поэтической форме, я говорю, в сущности, знаками, а не словом. Глухонемые отлично понимают друг друга, и железнодорожные семафоры выполняют весьма сложное назначение, не прибегая к помощи слова.
Гумилев, конечно, читал эту статью еще в 1913 году и, вероятно, помнил ее в год публикации, в 1919-м; в этот год сам он написал одно из знаменитейших своих стихотворений, в котором есть такие строки: