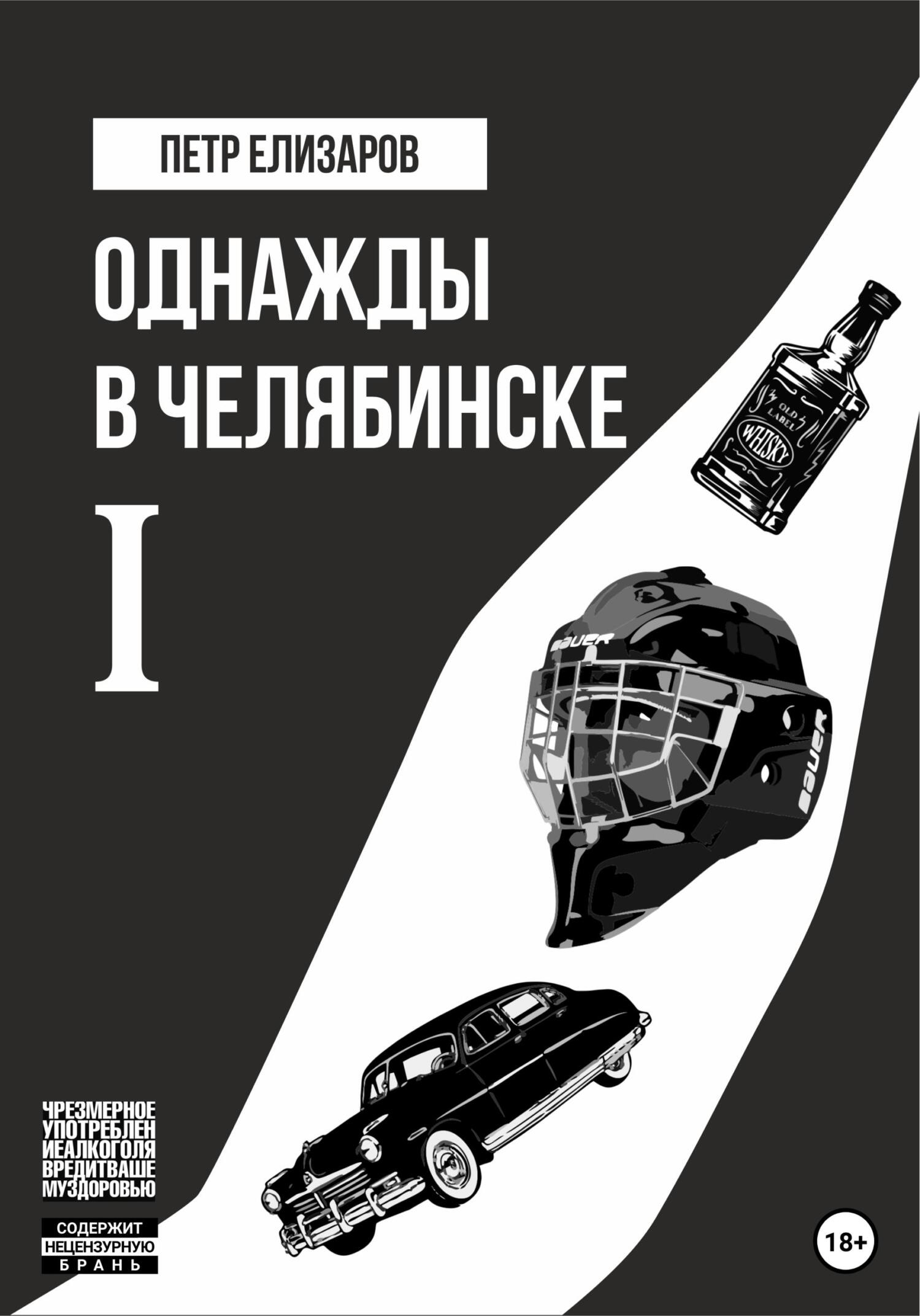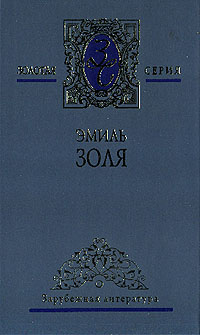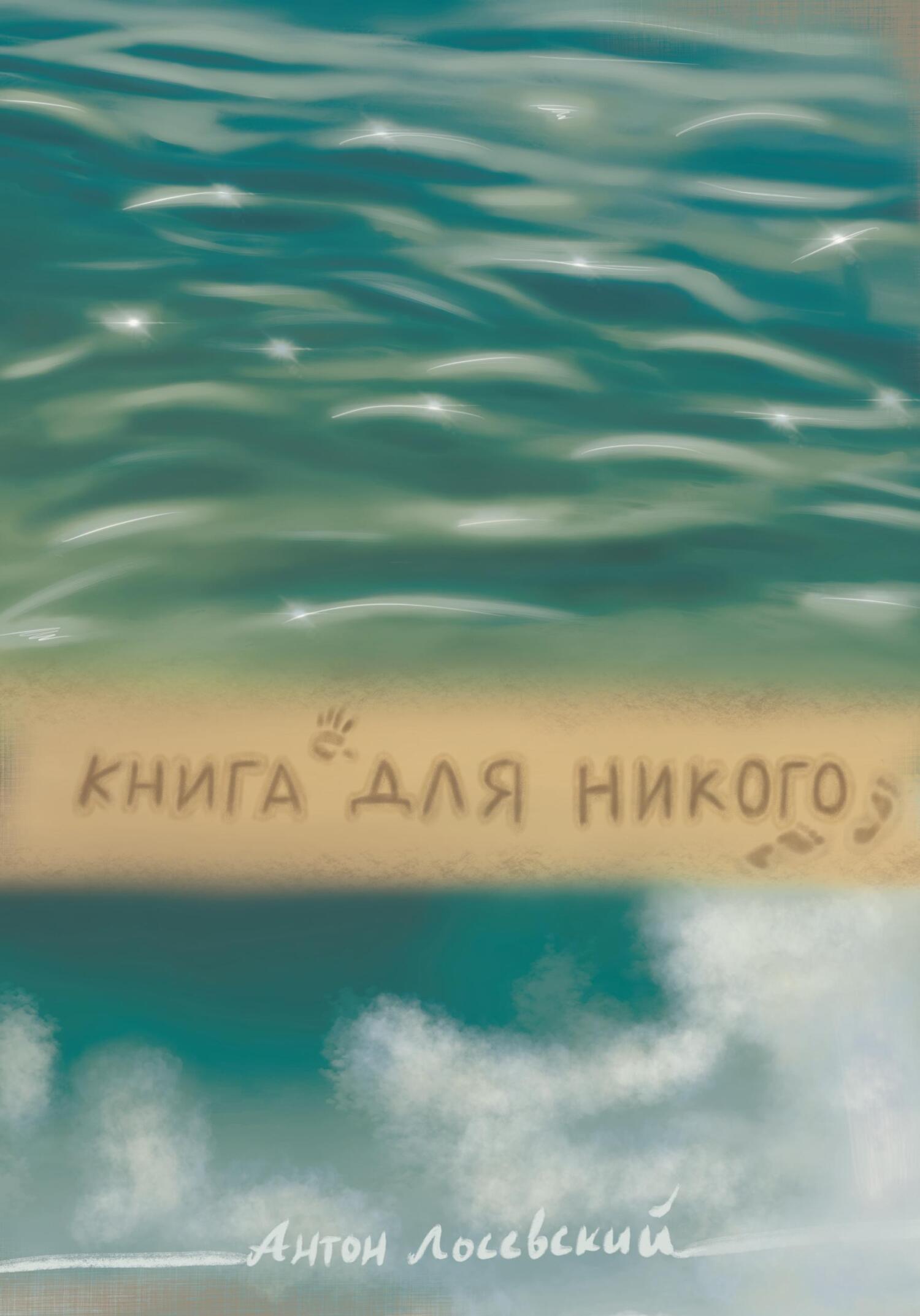хотел сказать, что «разное случается», но Леночка такая была серьезная, а в то же время почти что плачущая, она откуда-то из-за лифчика, должно быть, достала носовой платочек и готова была вытереть им глазки.
И Корнилов сказал, решился:
— Нет, не может, Леночка! Не может быть любви без чувства!
— А-а-а! Вот как, вот как вы говорите, Петр Николаевич! А вот может быть, может быть любовь без чувства, говорю я вам! Да-да – может! Потому что ради любви должно быть отвергнуто все что угодно – даже чувство! Тем более что чувство нынче словно калека какая-нибудь, словно сыпнотифозный какой-нибудь или дизентерийный больной – оно хилое, оно – слабое, оно само по себе и существовать-то не может, а только подлаживаясь под какое-нибудь дурацкое умозаключение, под какую-нибудь подлую философию, под какое-нибудь мерзкое мировоззрение! И прав, тысячу раз прав Боренька, когда отрицает и ненавидит философии, а вместе с ними и чувства – они же день и ночь валяются в одной постели. Я уже и сама, своим умом давно прокляла философии, но только не знала, что же мне делать с чувствами? Оказывается, вот что – туда же их, в ту же самую свалку, к стенке, в расход! Вот как объяснил мне Боренька и мое истинное счастье, что я его встретила, что поняла его, поняла, что ради любви все можно выбросить на свалку, от всего освободиться! А вы, Петр Николаевич, вот вы признайтесь – ведь философии из вас делают чурбана, может быть, сделали уже, и вы любить не можете, вы только философствуете, вы против этого зла человеческого устоять не можете! Устоять может один только Боренька, ну, а если устоит он, значит, устою и я! Я и Боренька поняли, догадались, что в отрицании любых чувств и состоит самое высокое чувство, конечно, так! Отшельники-то, они когда-то это понимали и уходили в пещеры! От кого они уходили? Вы, может быть, думаете, от людей? Ну да, наверное, от них, но еще прежде того – от своих же собственных чувств, которые были им как проказа, как наваждение! В этом, в отрицании чувств, только и осталась нынче маленькая такая, крохотная такая возможность любви, других возможностей больше нет! И не будет никогда! Все другие-то, большие-то, огромные-то возможности – вот такие, – Леночка широко размахнула руки и даже на цыпочки приподнялась, даже вытянула сколько могла шею вверх, – вот такие, они уже давно бывшие! А в настоящем они заплеваны, загажены, их попросту больше нет! А кто поверит в это самое крохотное, – Леночка показала что-то в своей маленькой, потрескавшейся и огрубевшей от черной работы ладошке, – кто в это крохотное поверит – он кто?! Не знаете, Петр Николаевич, кто он – такой человек? Не знаете и не узнаете никогда, если я вам этого не скажу! Он смелый, вот он какой! Безумству храбрых поем мы песни, поем – самые храбрые из храбрых! Мы – это я и Боренька, вы это поняли, Петр Николаевич?! Не смейте смеяться! Улыбаться – не смейте! Это так серьезно, что вы слова не имеете права вымолвить, вы только можете остаться один и думать, думать. Честно думать. До конца честно! От вас большей честности никогда и никто не требовал и не потребует, чем я сейчас от вас требую! – И тут Леночка подошла к дверям и прислонилась к дверному косяку и тихо, строго сказала: – Все-таки я могу требовать, да! Мы ведь были очень близкими людьми. Очень близкими, когда я приходила к вам на улицу Льва Толстого дом семнадцать, а вы были нэпманом. В дом бывшей «Тетеринской торговли». Могу я или не могу – требовать?
— Можешь, Леночка! – подтвердил Корнилов, а Бурый Философ сказал:
— Да, Петр Николаевич, вот еще что: не упоминайте ни при каких обстоятельствах мое присутствие при той драке. Ну, в которой вас ранили и даже чуть не убили. Могу я об этом... ну, не то чтобы требовать, а по крайней мере просить?
— Можете, – согласился Корнилов. – Можете.
— А тогда – договорились. До свидания. У нас к вам, собственно, все. Молодец, Елена, молодец: все сразу поставила на свои места! А еще говорят: женский ум! Да женскому уму иногда, оказывается, цены нет!
Леночка в это время была уже по ту сторону порога, оттуда она сияла личиком с двумя белыми кудряшками на лбу...
Борис Яковлевич, енчмениадец, пожал Корнилову руку, но еще задержался, еще сказал:
— Я знаю вашего следователя, и я хочу вас предупредить: будьте с ним осторожны.
— Что вы имеете в виду?
— Народник. Из тех, которым не пролетарские гимны петь, не «замучен тяжелой неволей», а всякие там «калинки, калинки мои...». Он за калинки интересов мирового пролетариата нисколько не пожалеет, а еще – за девичьи хороводы и за свадебные дикие обряды, уж это конечно! Он и в нэпе видит утверждение всего этого хлама, он – мужик, он кулак и стоит за нэп на вечные времена. Он – за разлагающее влияние нэпа и за мужицкий индивидуализм. А по натуре – он безмозглый почвенник. У него одни только темные привычки, больше ничего!
— Так хорошо вы знаете моего следователя?
— Издалека. Хорошо я знаю другого Уполномоченного – Промысловой Кооперации. Вы и с ним тоже имеете дело и вот на него можете положиться! Тоже из мужиков, но без предрассудков.
Корнилов готов был продолжить разговор с Борисом Яковлевичем, но тот уже переступил порог, – там, за порогом, его ведь ждала Леночка.
У нее было такое счастливое выражение лица, у Леночки, как будто только что кто-то из них кого-то спас – она спасла Бореньку или Боренька спас ее от какой-то огромной опасности.
А в окно Корнилов увидел еще, как Леночка оправила на себе платьице, какими быстрыми и легкими движениями. Человек, у которого что-то осталось на душе, какое-то недоумение, так не сделал бы, не смог. Потом Леночка, пугаясь своей нежности, скрывая ее, прижалась к Бореньке, взяла его под руку, и они ушли, скрылись за углом соседней избы.
Они ушли, Корнилов вздохнул, стал ходить туда-сюда по избе.
Каким-то образом Бурый Философ оказался причастным к делу Корнилова, он знал УПК и, что совсем некстати, УУР он тоже знал.
И при первой же встрече счел необходимым дать Корнилову рекомендации: УУР нужно опасаться, на УПК можно надеяться.
Как и в чем можно надеяться на УПК – непонятно, но Боренька прав в том, что своего следователя Корнилову нужно опасаться. Еще бы