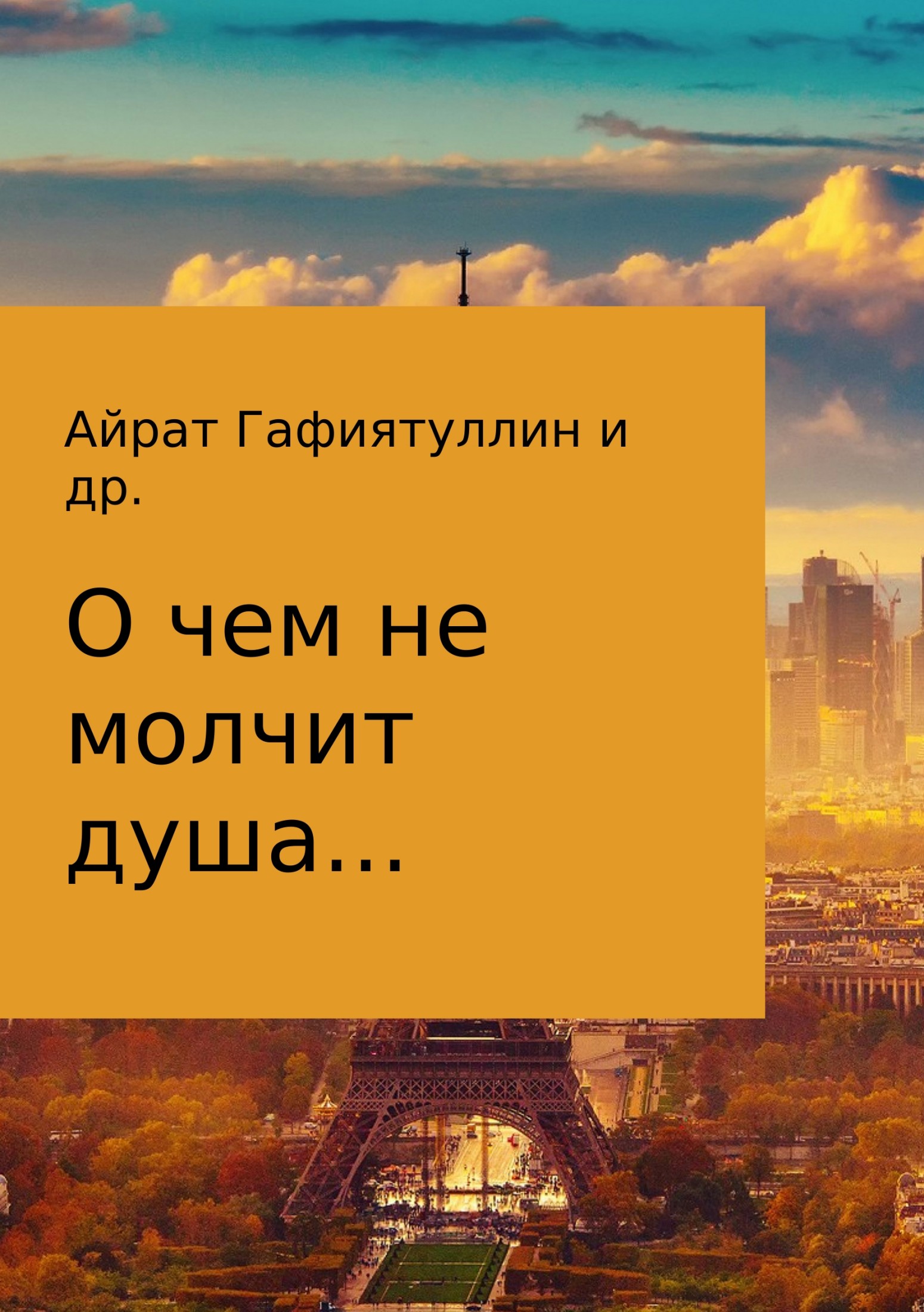которыми можно ставить опыты, а они при этом будут вилять хвостиком и облизывать ее пальцы.
– И что ты…
– Нарисую последнюю картину. – Он вскочил на ноги. – Для кого этот холст, Розочка? Он – для меня. Это все, что мне осталось.
– Нет! Это не выход!
– Смерть – это всегда выход. Самый простой, Розочка.
Я стояла молча. Что могу ему сказать? Я никогда не любила. Чем такая, как я, может утешить такого человека, как он. Может быть, ему и правда будет так легче?
– Останешься посмотреть, – то ли спросил, то ли констатировал факт Адам.
Он достал из прикроватной тумбочки маленький серебристый ножик с декоративными камушками.
– Ее подарок, еще из Питера. Она тогда сказала: «Когда-нибудь мы с тобой вскроемся им», а я думал: «Все, что она говорит, так сумасшедше прекрасно!»
Адам пристально посмотрел на меня, но я не могла произнести ни слова. В горле пересохло, а мышцы судорожно сжались.
Он провел ножиком по предплечью, оставляя на загорелой коже белый след. Он не резал себя, а просто водил ножом.
– Когда-то я мечтал делать такие перформансы. Убивать себя каждый день на публике.
Он продолжил водить ножом, как мне показалось, уже нажимая на кожу, но оставались те же белые царапины.
– Может, сразу артерию? – спросил он, но не меня.
Адам снял холст с мольберта, положил его на пол и сам лег на него.
– Я уже столько раз размазывал кровь. Пусть теперь она просто льется из меня.
Он лежал, закрыв глаза и прислонив ножик тупой стороной к сонной артерии. Его губы шевелились, а может быть, просто дрожали.
«Хотя бы попытайся», – сказала я себе.
Осторожно, чтобы не напугать его, я прилегла рядом.
Адам открыл глаза.
– Ты тоже хочешь?
– Нет, не надо.
Я потянулась к его шее и зажала пальцами сонную артерию, как будто бы он уже ее порезал, а я пытаюсь остановить кровь. Пульс Адама был спокоен. Он повернулся и очень нежно, легкими прикосновениями губ поцеловал меня. Потом резко всадил нож в холст и распорол его между нами. Я, испугавшись, отползла с холста к матрасу. А Адам с одержимостью принялся снова и снова всаживать нож в холст. Когда полотно стало совсем лохматым, он сел и, отдышавшись, швырнул нож под кровать.
– Я уеду. Прямо сейчас.
Я кивнула. Что еще я могла сделать? Это был просто мальчишка с разбитой мечтой, а не лидер секты, каким я его видела в первые месяцы. Сейчас я ощущала себя сильнее.
– Поедешь со мной? – с надеждой бездомного пса спросил он. – Я уже много лет не был один. Боюсь, я сойду с ума.
– Но ведь это временное. Я бы смогла тебя полюбить. Но ты никогда не будешь любить меня. Я никогда не стану как она…
– Не думай о том, что будет потом. Когда-нибудь мы обязательно раним друг друга. Но сейчас… Давай просто любить до предела. Нет, без пределов.
Он жадно поцеловал меня, крепко держа правой рукой за подбородок, а левой поглаживая меня через джинсовые шорты. В предыдущие разы я льнула к нему, пыталась понравиться, красиво прогнуться («чтобы как самые изящные модели на старинных картинах»). А сейчас он делал все, чтобы мне понравиться. И я подумала: «Может быть, это и будет тот самый красивый и трагичный роман в моей жизни?» Но когда он закончил, целуя меня своими припухшими губами с моим вкусом, я подумала о Рите, что бы она сказала. Она тоже всегда была за правду. Не за режущую и бескомпромиссную, как Антон. А за такую чистую и искреннюю честность. Она бы нашла правильные слова, уговорила бы его остаться и признаться. Я злилась на эту фантомную Риту и эгоистично хотела сбежать с ним.
– Сейф с ценными вещами у Миши, но он очень крепко спит. Я достану твой паспорт и телефон, а ты иди, только тихо, и собери все свои вещи. Они, наверное, уже собраны? – тараторил он, натягивая на меня шорты.
– Адам, я… Мне кажется, нечестно сбегать… Если ты боишься их реакции, давай я расскажу. А ты потом подойдешь и извинишься перед каждым, когда они остынут.
– Они не простят меня, ты же знаешь. Зачем ты это говоришь? Чтобы очистить совесть?
– Рита бы так сделала, – сказала я, испугавшись, что он сбежит один. Я мысленно извинилась перед ней за то, что свалила все на нее.
– Что за глупость! Риты нет, она сбежала. Тоже сбежала. И мы сбежим.
– Но она мне нужна! Она моя единственная подруга. Я боюсь ее потерять, боюсь, что она осудит…
– Тебе нужна она только потому, что ты считаешь себя лучше, когда думаешь, что искренне любишь кого-то. Тебе кажется, что чаша весов перевешивает в добрую сторону, когда ты восхищаешься ее работами, когда сопереживаешь ее проблемам. Но она не нужна тебе. Потому что тебе не нужно быть доброй. Тебе нужны свобода и смелость быть собой. Тебе нужно запомнить, – он поднял руку в иконографическом жесте всепрощающего Иисуса, – люди, которые делают добро, просто не владеют искусством красиво уничтожать себя и других. Им непонятна эстетика разрушения. А создание чего-то нового в искусстве – это всегда разрушение чего-то в себе или в дорогом человеке. Никто не будет прежним после создания шедевра. Мы все пропитаны ядом.
Адам по-тигриному нервно ходил по комнате и вдруг остановился, уставившись на разодранный холст.
– Мои картины… – прохрипел он.
– Ты хочешь забрать их с собой?
– Они по дороге в Питер, – простонал он, проводя ладонью по голове. – Венера отправила их на выставку. Она никогда не вернет мне их. А из этой выставки теперь сделает шоу.
– Но ты же не виноват в…
Он посмотрел на меня своим обычным взглядом: прищуренные глаза, поджатые губы.
– Ты не один виноват в…
– Я – самый удобный человек, чтобы они могли очиститься. Я знаю, они все повесят на меня.
Какое-то время мы молчали, слушая приглушенное шипение моря. Вдруг он по-детски рассыпчато и так весело рассмеялся:
– Похер. Начну все снова. Обнулюсь. Кому вообще нужны картины в двадцать первом веке? Мы придумаем что-нибудь новое. Да, Розочка?
Адам по-братски приобнял меня и чмокнул в висок.
– Я не знаю, достойна ли я тебя… – наконец прошептала я.
– Ты проецируешь свои мысли на других. Из этой смены ты – самая талантливая. Я вижу твой прогресс. Твою красоту. С кем ты хочешь быть? С теми, для кого ты будешь просто удобным человеком, или тем, кто ценит тебя? Наслаждается тобой.
Мы замолчали.
– Я могу позвать с собой Лину.