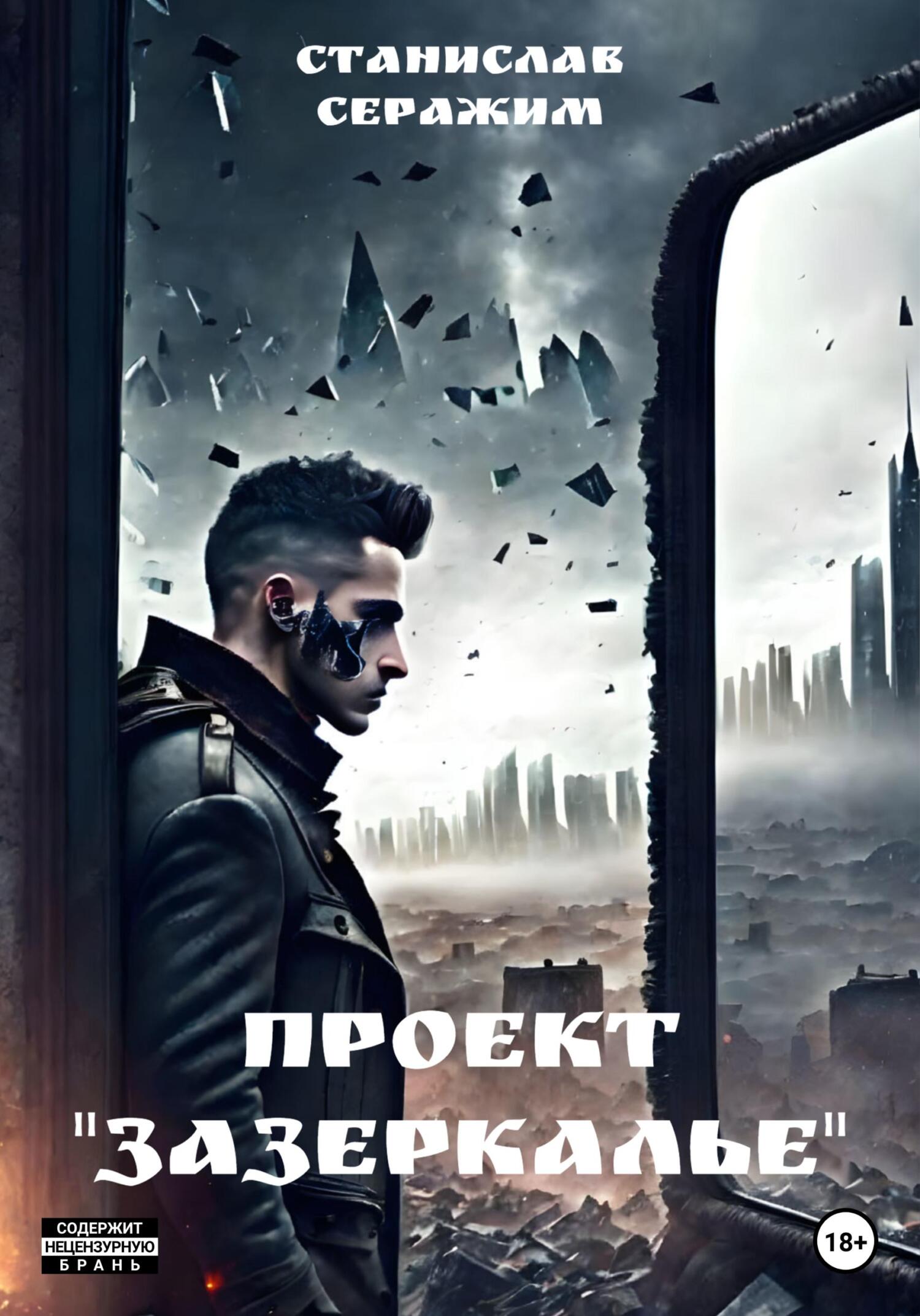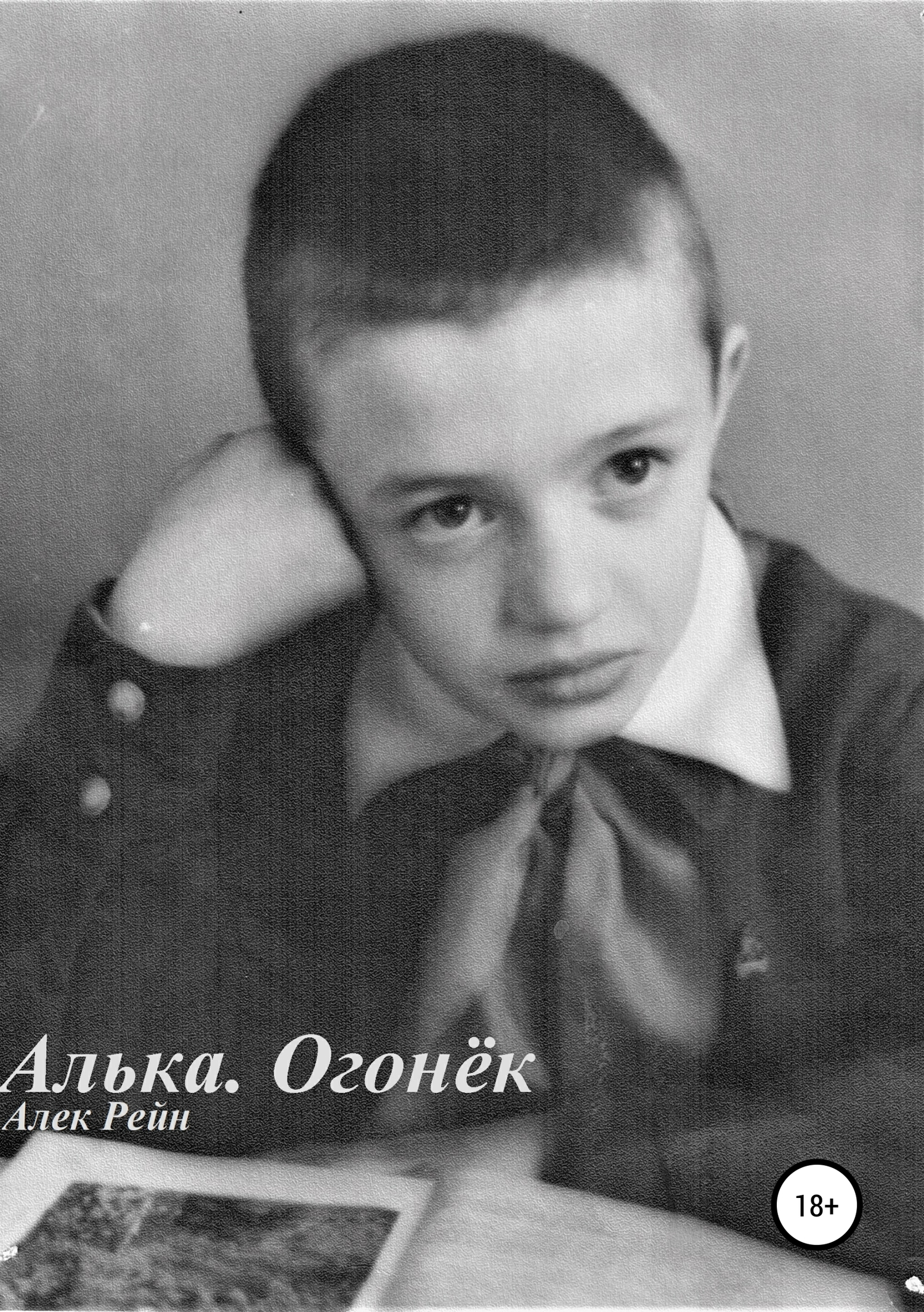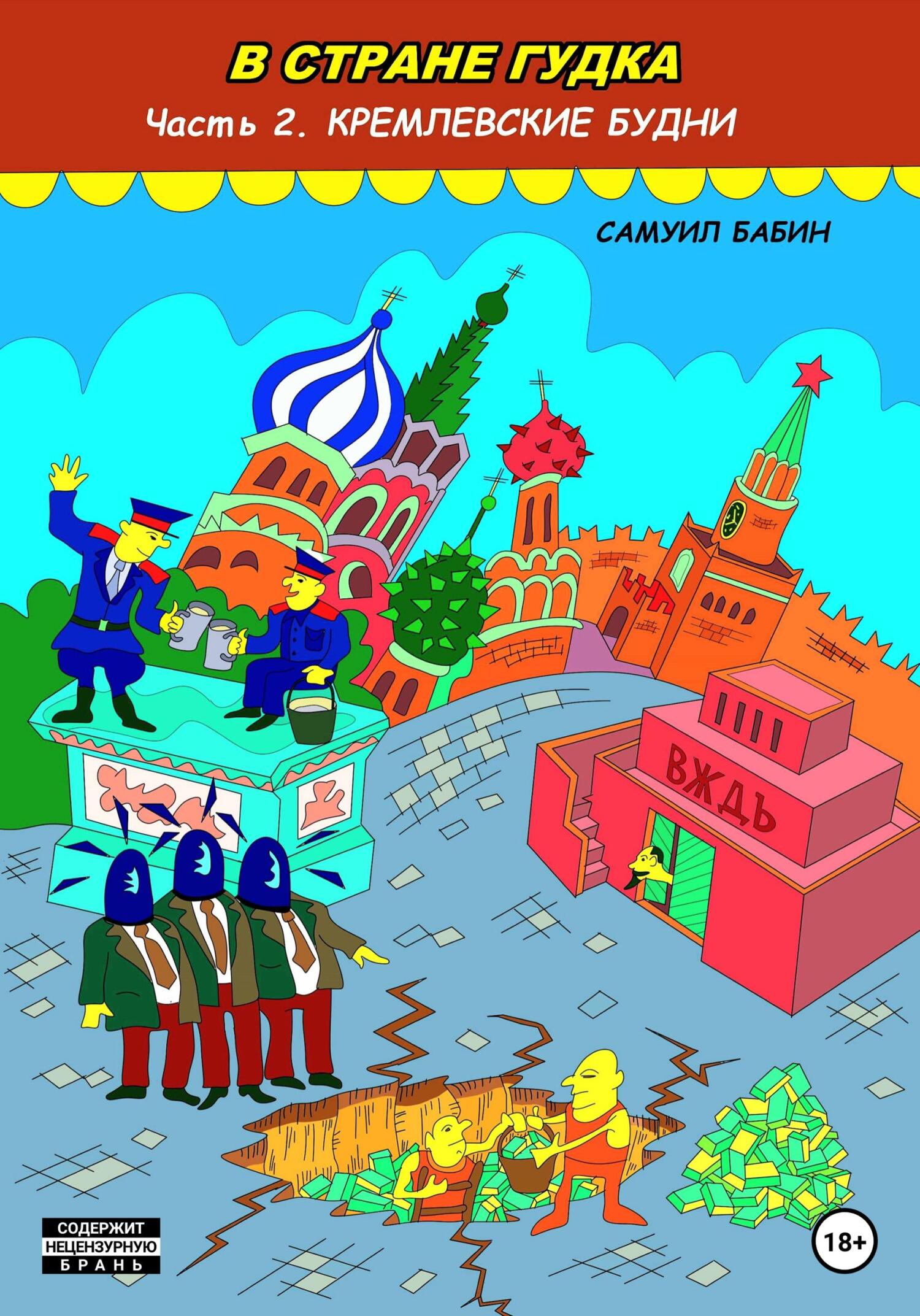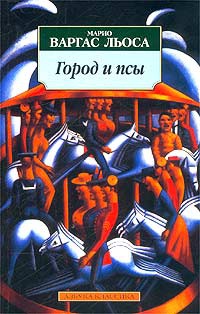друга. Словом, метраж есть, а партии нет! Ни поисковиков, ни геодезистов, ни коллекторов. Один радист, спившийся с круга!.. Бывают у нас чудеса. Понял, нет? — Филинов вынул из ведра, прикрытого мокрой тряпкой, бутылку «Арзни» и ударом об угол койки выбил жестяной колпачок. — Хочешь водички? Пей, пожалеешь. Хорошая водичка. Смотри, сколько газа.
— И что же им было? — не дал отвлечься Филинову Никритин.
— А что за это бывает? — Филинов сложил пальцы решеткой. — Два вдоль, два поперек — и ваши не пляшут. Куда я с ней ни летал, пока все распутала. — Он вытянул ноги на койке и глянул на Никритина. — Ну, ложись. Поспим до вылета.
Никритин опустился на койку. Заскрипели пружины, удерживающие парусиновую люльку. Путаница мыслей царапала сердце, не давая покойно улечься. Он так и не заснул. Лежал и слушал храп Филинова, томился по Тате.
Все дальше и дальше отодвигался город, исчезал, как за дымкой летучего песка...
...Ощущение фантастичности происходящего охватило Никритина, когда они с Филиновым подошли к самолету и тот запросто полез в машину, как в автомобиль.
— Садись, Лешман, кидай барахлишко! — сказал Филинов.
«Неужели так вот просто возьмем и полетим?» Никритин огляделся. Все — почти как в «Победе». Четыре места... Оконца... Правда, стекла в пазах ходят не сверху вниз, а слева направо... Да приборная доска сложнее... А так — мечта фантастов: самолет-автомобиль.
Хриповато зарычал мотор. Лопасти винта смазали пространство впереди серым кругом, который все более и более истончался, становился прозрачным. Филинов подвигал педалями, слегка подал ручку от себя, и самолет, раскачиваясь, побежал по земле.
Никритин не заметил, когда оторвались от земли. Коробки домов, уже уменьшенные расстоянием, внезапно оказались внизу и медленно продолжали тонуть.
Мотор рычал громко, но как-то доверительно-уютно. Филинов, сняв с крючка микрофон, поднес его ко рту. Никритин расслышал только одно, часто повторяемое слово: «Изар, Изар!..» Наверно, позывные... Изар... Что-то до чертиков знакомое, древнеэкзотическое... а попробуй вылови в глубинах памяти!..
Он глянул вниз. Приближалась Аму-Дарья. Восходящие и нисходящие потоки воздуха стали пошвыривать самолет. Но никакого страха Никритин не испытывал. Словно на качелях качался.
Надвинулась близко излучина реки — кофейно-фиолетового цвета. Сверху представлялась неподвижно застывшей полоса поперечных белых барашков — гофрированный след пролетевшего ветра. Буксир, похожий на жука, тащил две баржи. Они тоже казались неподвижными, влипшими в кофейную гущу.
Солнце стояло еще высоко, но уже потеряло дневную ярость. В открытые оконца бил ветер, ощутимо сплетенный в мускулистые жилы. Ровно рокотал мотор, и Никритин незаметно для себя погрузился в бездумную созерцательность. Внезапно он поймал себя на том, что смотрит на землю и ни о чем не думает. Странный инструмент мозг: оказывается, он может работать и вхолостую...
Филинов перевел самолет в планирующий полет.
— Здесь мы садились с Татьяной... — сказал он, и в свисте воздуха, не наполненного рыком мотора, его голос прозвучал одиноко и громко, как в пустом зале.
Выпрямилась накренившаяся в вираже земля. Мелькнуло набрызганное мелом посадочное «Т», обозначающее направление господствующих ветров. Самолет мягко стукнулся о землю. Побежал. Остановился...
Ветер свистел — ровно и однообразно. Обшивку самолета звонко покалывали мелкие камушки, вплетенные в ветер. И сгущалась тишина, которую ничто не могло нарушить. Тишина безлюдья, просверленная тонким свистом ветра...
Никритин спрыгнул на землю. Остро скрипнула под ногами мелкая щебенка — каменная дресва, утрамбованная ветрами и временем. В косых лучах солнца вспыхивали красные, синие, зеленые лучики. Ветер крутился теперь в ушах, словно к ним приставили две раковины.
Низкое разбухшее солнце, казалось, заметно пульсировало, как нечто живое, дышащее. Барханы вдалеке налились оранжевым с коричневыми извивами гофрировки. «Гофрированная пустыня... — подумал Никритин. — Все тут гофрированное — вода, пески, воздух...»
Беззвучно, как фантастический зверь, вынырнула на дальние холмы автомашина. Задержалась на мгновенье, будто что-то высматривая, и покатилась вниз, к посадочной площадке.
— Поедешь с ними, — сказал сзади Филинов.
Никритин вздрогнул от неожиданности и обернулся на скрип удаляющихся шагов.
Филинов вытянул из дверцы почтовый мешок и кинул на землю. Потащил какие-то ящики, составил их штабелем.
— О’кей! — сказал он и почему-то смутился. — Перевести на русский: порядочек!
— Слушай, Филин... — Никритин уткнулся в сложенные лодочкой ладони, прикуривая. — Ты не говори тут... ну, о Татьяне... а?..
— Вопрос!.. — тоже закуривая, глянул Филинов исподлобья. — Могила!.. А вообще — желаю!.. Чтобы все — чинно-благородно. Крылатый привет! Татьянка знает меня.
Никритин отвел глаза.
Приближающаяся машина тыкалась тупым носом в холмы, выбирала дорогу.
Никритин выпустил изо рта струйку дыма и смотрел сквозь нее на солнце, щурился.
Вот здесь шла Тата... Он очень ясно представил себе, как она шла своей чуть пружинящей походкой, словно ступала по узкой колеблющейся доске.
Скрипит под ногами каменная дресва. Так же свистит ветер в ушах. Свистит, относит в сторону ее волосы, отклоняет солнечные лучи, облепляет брюками длинные ноги.
Тата — и издевательский почетный караул. Зеленые бутылки с полосками бликов.
Скрипит песок. Глупо ухмыляется пьяный радист. Ухмылка сморщивается по мере того, как надвигаются на него глаза Таты — темно-серые, утратившие блеск.
Здесь шла Тата... Далекая и незнакомая, почти чужая и пугающая.
Заскрипела щебенка — теперь наяву. Филин стоял сзади и курил.
— Ничего, Лешман... — сказал он негромко, как-то уловив настроение Никритина. — Ни пуха...
...«Додж три четверти», натужно гудя, взбирался на бархан. Небо придвигалось к самым глазам. Затем машина ныряла вниз, и серо-оранжевое пространство гасило взгляд. Однообразная, гнетущая пустота. И вибрирующий воздух над ней. Горячий, он рывками врывался под самодельный брезентовый тент, прикрывающий кабину шофера. Никритин чувствовал, как натягивается кожа лица — потная, саднящая, словно после ожесточенного бритья. Шофер молчал, круто выворачивая баранку и разжевывая мундштук потухшей папиросы. Все тяжелее становилось продвигаться.
Вблизи каменистой посадочной площадки пески скреплялись корнями кандыма, верблюжьей колючки. Мелькнули стороной заросли саксаула — главного оплота в борьбе с песками. Корявые, скрученные стволы были похожи на рисунки из анатомического атласа, отпечатанного серой краской на плохой бумаге. Не стволы, а мышцы, лишенные кожного покрова. Лишь упавшие, мертвые деревца отблескивали чистой пепельной серебристостью.
Теперь все пространство перед смотровым стеклом было изжелта-серого оттенка. Пески. Барханные пески. Они осыпались под тяжестью машины — голые, сыпучие,