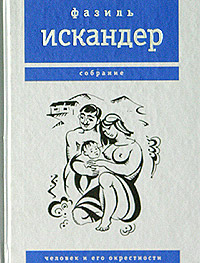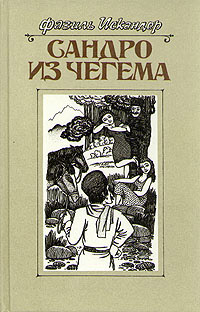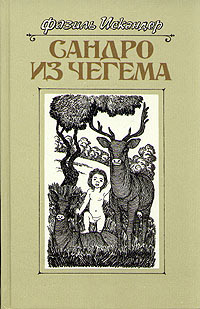имманентности в гармоническую сферу образного сознания в красоте». Замечательно, что тут русские слова, как на известном обеде генералов, о котором говорил Ермолов, звучат иностраннее латинских.
Немецкая наука, и это ее главный недостаток, приучилась к искусственному, тяжелому, схоластическому языку своему именно потому, что она жила в академиях, то есть в монастырях идеализма. Это язык попов науки, язык для верных, и никто из оглашенных его не понимал; к нему надобно было иметь ключ, как к шифрованным письмам. Ключ этот теперь не тайна; понявши его, люди были удивлены, что наука говорила очень дельные вещи и очень простые на своем мудреном наречии; Фейербах стал первый говорить человечественнее.
Механическая слепка немецкого церковно-ученого диалекта была тем непростительнее, что главный характер нашего языка состоит в чрезвычайной легкости, с которой все выражается на нем – отвлеченные мысли, внутренние лирические чувствования, «жизни мышья беготня», крик негодования, искрящаяся шалость и потрясающая страсть.
Рядом с испорченным языком шла другая ошибка, более глубокая. Молодые философы наши испортили себе не одни фразы, но и пониманье; отношение к жизни, к действительности сделалось школьное, книжное, это было то ученое пониманье простых вещей, над которым так гениально смеялся Гете в своем разговоре Мефистофеля с студентом. Все в самом деле непосредственное, всякое простое чувство было возводимо в отвлеченные категории и возвращалось оттуда без капли живой крови, бледной алгебраической тенью. Во всем этом была своего рода наивность, потому что все это было совершенно искренно. Человек, который шел гулять в Сокольники, шел для того, чтоб отдаваться пантеистическому чувству своего единства с космосом; и если ему попадался по дороге какой-нибудь солдат под хмельком или баба, вступавшая в разговор, философ не просто говорил с ними, но определял субстанцию народную в ее непосредственном и случайном явлении. Самая слеза, навертывавшаяся на веках, была строго отнесена к своему порядку: к «гемюту»[224] или к «трагическому в сердце»…
То же в искусстве. Знание Гете, особенно второй части «Фауста» (оттого ли, что она хуже первой, или оттого, что труднее ее), было столько же обязательно, как иметь платье. Философия музыки была на первом плане. Разумеется, об Россини и не говорили, к Моцарту были снисходительны, хотя и находили его детским и бедным, зато производили философские следствия над каждым аккордом Бетховена и очень уважали Шуберта, не столько, думаю, за его превосходные напевы, сколько за то, что он брал философские темы для них, как «Всемогущество божие», «Атлас». Наравне с итальянской музыкой делила опалу французская литература и вообще все французское, а по дороге и все политическое.
Отсюда легко понять поле, на котором мы должны были непременно встретиться и сразиться. Пока прения шли о том, что Гете объективен, но что его объективность субъективна, тогда как Шиллер – поэт субъективный, но его субъективность объективна, и vice versa,[225] все шло мирно. Вопросы более страстные не замедлили явиться.
Гегель во время своего профессората в Берлине, долею от старости, а вдвое от довольства местом и почетом, намеренно взвинтил свою философию над земным уровнем и держался в среде, где все современные интересы и страсти становятся довольно безразличны, как здания и села с воздушного шара; он не любил зацепляться за эти проклятые практические вопросы, с которыми трудно ладить и на которые надобно было отвечать положительно. Насколько этот насильственный и неоткровенный дуализм был вопиющ в науке, которая отправляется от снятия дуализма, легко понятно. Настоящий Гегель был тот скромный профессор в Иене, друг Гельдерлина, который спас под полой свою «Феноменологию», когда Наполеон входил в город; тогда его философия не вела ни к индийскому квиетизму, ни к оправданию существующих гражданских форм, ни к прусскому христианству; тогда он не читал своих лекций о философии религии, а писал гениальные вещи, вроде статьи «О палаче и о смертной казни», напечатанной в Розенкранцевой биографии.
Гегель держался в кругу отвлечений для того, чтоб не быть в необходимости касаться эмпирических выводов и практических приложений, для них он избрал очень ловко тихое и безбурное море эстетики; редко выходил он на воздух, и то на минуту, закутавшись, как больной, но и тогда оставлял в диалектической запутанности именно те вопросы, которые всего более занимали современного человека. Чрезвычайно слабые умы (один Ганс делает исключение), окружавшие его, принимали букву за самое дело, им нравилась пустая игра диалектики. Вероятно, старику иной раз бывало тяжело и совестно смотреть на недальновидность через край удовлетворенных учеников своих. Диалектическая метода, если она не есть развитие самой сущности, воспитание ее, так сказать, в мысль – становится чисто внешним средством гонять сквозь строй категорий всякую всячину, упражнением в логической гимнастике, – тем, чем она была у греческих софистов и у средневековых схоластиков после Абеларда.
Философская фраза, наделавшая всего больше вреда и на которой немецкие консерваторы стремились помирить философию с политическим бытом Германии: «Все действительное разумно», была иначе высказанное начало достаточной причины и соответственности логики и фактов. Дурно понятая фраза Гегеля сделалась в философии тем, что некогда были слова христианского жирондиста Павла: «Нет власти, как от бога». Но если все власти от бога и если существующий общественный порядок оправдывается разумом, то и борьба против него, если только существует, оправдана. Формально принятые, эти две сентенции – чистая таутология, но, таутология или нет, – она прямо вела к признанию предержащих властей, к тому, чтоб человек сложил руки, этого-то и хотели берлинские буддаисты. Как такое воззрение ни было противоположно русскому духу, его, откровенно заблуждаясь, приняли наши московские гегельянцы.
Белинский – самая деятельная, порывистая, диалектически страстная натура бойца, проповедовал тогда индийский покой созерцания и теоретическое изучение вместо борьбы. Он веровал в это воззрение и не бледнел ни перед каким последствием, не останавливался ни перед моральным приличием, ни перед мнением других, которого так страшатся люди слабые и не самобытные, в нем не было робости, потому что он был силен и искренен; его совесть была чиста.
– Знаете ли, что с вашей точки зрения, – сказал я ему, думая поразить его моим революционным ультиматумом, – вы можете доказать, что чудовищное самодержавие, под которым мы живем, разумно и должно существовать.
– Без всякого сомнения, – отвечал Белинский и прочел мне «Бородинскую годовщину» Пушкина.
Этого я не мог вынести, и отчаянный бой закипел между нами. Размолвка наша действовала на других; круг распадался на два стана. Бакунин хотел примирить, объяснить, заговорить, но настоящего мира не было. Белинский, раздраженный и недовольный, уехал в Петербург и оттуда дал по нас последний яростный залп в статье,