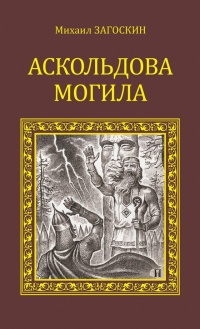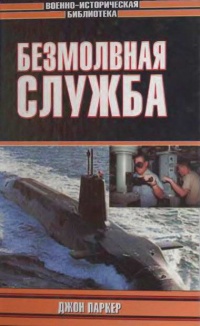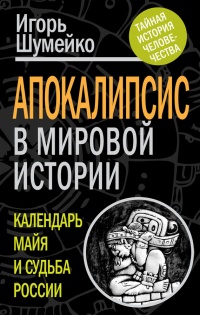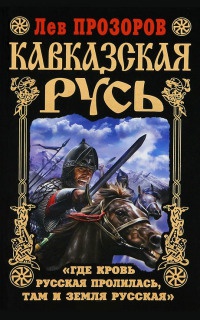12 марта Москва торжественно встречала героя. Царь выслал личных представителей, бояр и окольничих, к городской заставе, а народ показал ещё больше усердия, встав густыми рядами по всей Троицкой дороге. Ярко светило солнце, ноздреватый снег искрился, оседал, на проезжих колеях уже проступила земля, и по этой первой весенней грязи дружно шагали победители: русские, шведы, другие иноземцы — москвичи без разбора старались выказать каждому свою приязнь. Всё вокруг шумело и ликовало, неумолчно звонили в храмах, воздух дрожал от восторженных криков. «Сла-ава-а! Сла-ава-а!» — гремело по ходу движения войска. Вверх летели шапки, отчаянные бабы прорывались к князю, подносили ему детей, чтоб притронулся и оделил благодатью, а он, смущённый всеобщим вниманием, чувствовал себя неловко и заливался румянцем. Шуйский вопреки обычаю вышел из дворца на Соборную площадь, стоял в окружении первых бояр, маленький, неприметный, и не мог удержать радостных слёз. Лица не отирал, чтобы не нарушить чина, только часто моргал и жмурился, промокая глаза. Тут же находился Гермоген, как всегда строгий, неулыбчивый, но ныне людская радость тронула и его: исчезли обычные нахмурки, лицо разгладилось и осветилось каким-то внутренним светом. В этот миг всеобщего воодушевления вынуждено прятали своё истинное отношение к происходящему завистники и недоброжелатели, одному лишь это не удавалось: Дмитрий Шуйский, стоявший рядом с державным братом, не скрывал откровенной злобы. Все эти толки о новом царе по имени Михаил поражали его в сердце; он сам претендовал на русский трон, ибо Василий, несмотря на все усилия, так и не смог обзавестись наследником.
После торжественного богослужения был дан великий пир, послуживший началом бесконечной череды празднеств, каждый желал залучить к себе почётного гостя. И что удивительно: только что Москва страдала голодом и вдруг как по волшебству явилось изобилие. Скопин томился вынужденной задержкой, он видел подъём народного духа и был уверен: коли бросить клич идти на врага, всяк пойдёт без раздумья. Каждый раз встречаясь с Шуйским, он доказывал необходимость немедленного похода на Смоленск. Укрывшийся в Калуге Тушинский вор беспокоил мало: те, кто оставались вокруг него, не представляли серьёзной угрозы, они, как ядовитые твари, должны скоро сами извести друг друга. Сигизмунд — вот явный враг, только после победы над ним наступит долгожданный мир на Русской земле. К тому же по вполне понятным причинам склонялся и Делагарди, настаивавший на том, чтобы привести в действие самые решительные статьи русско-шведского договора. Однако Шуйский медлил, отговаривался разными причинами. Нельзя, говорил, лишать народ радости чествовать своего героя, нужно дать возможность отдохнуть войску и вообще лучше отложить поход до просухи. На самом же деле, следуя настоятельным просьбам подозрительного брата, он опасался передавать войско под начало Скопина.
Дмитрий Шуйский был молчалив, да его мыслям и не требовалось многословия. Говорил коротко и отрывисто:
— Он скажет, его послухают...
Действительно, любой призыв Скопина был бы мгновенно исполнен. Василий не хотел верить подозрениям, уверял, что Скопин предан ему и не помышляет об измене.
— А зачем с Ляпуновым сношается?
Это про то, как Ляпунов предлагал ему царский скипетр.
— Что за сношение? Ко мне тоже всякий прислать может, — слабо отнекивался Василий.
— А как Корел ой твоим именем распорядился?
Раздражённый Василий замахнулся посохом:
— Изыди и не лай попусту!
— Погнать легко, усидеть трудно.
Василий страдал и маялся — ни на кого нельзя положиться, иногда даже слёзы навёртывались, так себя было жалко, с походом всё-таки решил подождать: в Смоленске-то покуда тихо.
Оттуда и вправду не доносилось отчаянных криков, но это затишье было кажущимся. Горожане страдали от голода, у кого были какие запасы, подмели начисто. Оставалась лишь одна надежда на власть. В марте городской совет устроил поголовную перепись жителей и хлебных запасов, чтобы рассчитать, кому сколько давать. Стрельцам положили более всех — на каждую семью свыше двух четвертей зерна в месяц, служивым посадским и стенным мужикам в пять раз меньше, прочим же по 15 фунтов на рот — ну-ка, проживи. Постоянный голод как червь гложил восьмерых из десятка, слабые повреждались рассудком, случалось, что матери душили детей не в силах вынести их постоянного крика, мужья отдавали жён в заклад, а цена заклада — кусок хлеба. Девиц растлевали за ту же цену и ни у кого не поворачивался язык, чтобы осудить несчастных.
Охотников среди стрельцов находилось немало, служба у них выходила сытная и сладкая. Среди них выделялся сотник Андрей Дедешин — морда гладкая, глаза блудливые, животик кругленький. Ни одной бабы не пропускал, а к замужним имел особое пристрастие. Давно подбивался к Мотре, несмотря на то, что кормящая; знал, что мужик её денно и нощно на стенах долг Булыге отрабатывает, вот и наведывался. Мотря гнала прочь, намахивалась ухватом, погрозила пожаловаться мужу. Дедешин только ухмыльнулся:
— Дура ты баба, мне думать, про евонные ходки неизвестно? Шепну, кому следует, навовсе без корма останетесь, с одним долгом.
И заколыхал животиком. Мотря отшвырнула ухват, зарыдала от бессилия. Нежданчик ей вторил, он вообще не молчал и минуты, всё есть просил. К концу зимы у неё пропало молоко, и скоро младенец отдал Богу душу. Мотря с той минуты замкнулась: ни мёртвая, ни живая — никакая. Молчала и угасала на глазах, не ела даже той малости, что Ивашка приносил. Тут кто-то шепнул ему про приставания Дедешина. Ивашка к ней, так и сяк, а она смотрит в одну точку невидящим взглядом и ничего более.
— Ахти мне! — вскричал Ивашка. — Я ить не с подзором, дьяволу тебя отдал бы, кабы только к жизни вернуть!
Ещё день промаялся, потом пришёл к охальнику.
— Помоги, Андрей Иваныч, помирает баба, может, ты вразумишь.
— A-а, давно бы так, глядишь, и мальца бы сохранила. Веди...
Отвёл Ивашка жену, получил краюху хлеба и сунул по куску детям. Посидел, посидел и вдруг завыл смертным воем — за самое сердце схватила нужда. На вой заглянул убогий Митяй и, узнав, в чём дело, разразился гневной проповедью. Ты, сказал, хотел сохранить тело жены своей, но погубил её и свою душу. Подумал ли, что будет дальше? Ведь не сможешь взять её после осквернения обратно, ибо сие есть мерзость перед Господом. И куда денется несчастная? Ивашка схватил горбуна за шею, приподнял над землёй.
— Нечестивый злоумышляет против праведника и скрежещет на него зубами своими, — прохрипел Митяй, — то не диво, пободайся-ка с подобным себе.
Бросил его Ивашка и, пристыженный, побежал выручать жену.
— Забирай! — кивнул Дедешин на притихшую Мотрю. — Она и живая была как мёртвая.
Подошёл Ивашка, та и впрямь не дышала, должно быть, со стыда преставилась. Снова вскричал по-дикому и, не помня себя, бросился на Дедешина, ну да разве с этим боровом совладаешь? Приставил он к Ивашкиной голове кулак и предупредил: