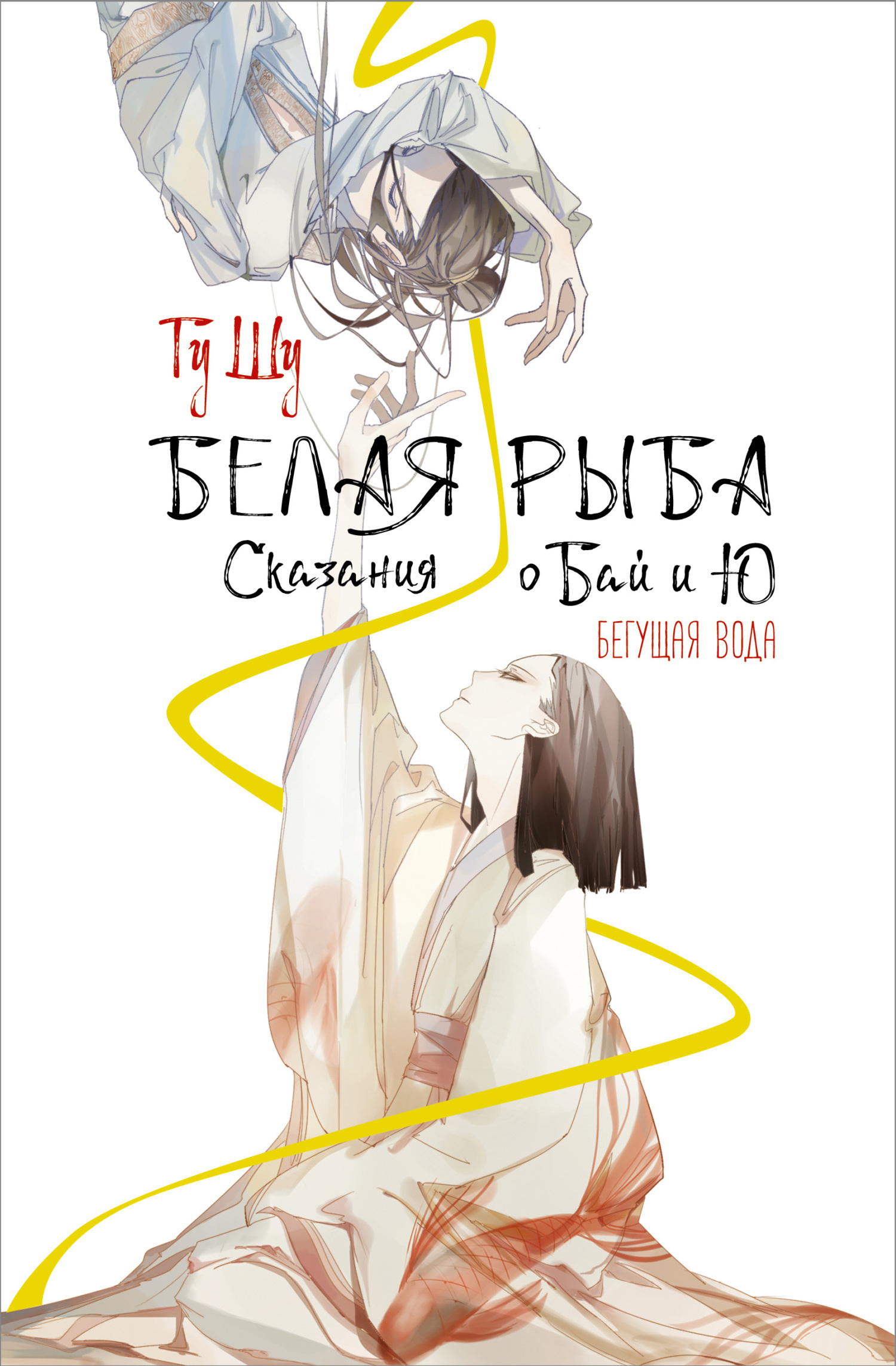— человеческую руку, — но не было сил двинуться, и не было сил радоваться.
— Любый мой, — причитала над ним Умила, — уж думала, ты оставишь меня… Сокол мой ясный, погляди на меня, хоть слово скажи! Что же это, всегда так тяжко? Ежели б я могла хоть часть этой боли забрать себе…
— Не трожь меня, — прохрипел он. — А ну как у тебя трава к рукам пристала? Я сказал, не трожь!
Он вышел из сарая, но проклятая трава мерещилась ему везде. Может, она в банном венике? Он перестал мыться в бане. Может, она в соломе? Он перетряхивал постель. Трава чудилась ему в складках лоскутного одеяла, в ведре с водой, в миске, в хлебном ломте. Он боялся коснуться ладоней Умилы и сторонился людей. Ему всё казалось, вот чуть — и он обернётся волком у всех на глазах. Он уже будто слышал крики и видел страх в лицах.
И в эту пору, на исходе весны, Добряк сказал Бажене в лесу, а та Умиле, а Умила, блеснув глазами, в которых теперь всегда жила неясная боль, сказала Завиду:
— В Перловку богатырь явился. Всё же змей его привёл.
Он лежал на постели, заложив руки за голову, а она стояла в стороне, не подходя, потому что к её рубахе могла пристать травинка, потому что Бажена нарочно могла осыпать её порошком из толчёной травы, потому что она могла вымыться в воде, настоянной на травах, да мало ли что ещё? Он боялся её касаться.
— Что ж ты, пойдёшь? — спросила Умила, не дождавшись ответа, и умолкла, кусая губы.
— Для чего мне идти? — усмехнулся Завид. — Он же богатырь. Небось и сам справится.
— Говорят, он не шибко силён, — с мольбой сказала Умила, заламывая пальцы. — Ему помощь надобна…
— Может, мне и волком оборотиться? — прикрикнул на неё Завид и тут же добавил с отчаянием: — Я боле не могу, сил моих нет! Ведь мы и не знаем, что с того будет. Старая нянька сказала, что видала богатыря и волка, да не сказала, живы ли они останутся. Мне, может, вовек того проклятия не избыть…
Умила подошла к нему и опустилась на колени у изголовья, хотела коснуться, но не осмелилась. Он сам протянул руку, дрожащими пальцами тронул её волосы в несмелой ласке.
— Не надобно, — чуть слышно прошептала она, отстраняясь, — вдруг трава где пристала…
Торопливо поднявшись, она выбежала, пряча лицо, а он сел и задумался.
Долго ли, коротко ли — Завид не считал, сколько дней прошло, — он понял, что давно не видал Умилы. Вышел из дома в летнее утро, тут же задохнувшись от зноя, от густого запаха разогретых солнцем трав. Гудели пчёлы. Куры вырыли ямки, ища прохлады, и сидели в них, топорща перья и раскрывая клювы. Из-под вишен глядели псы, рябые от солнечных пятен и тени; порой они лениво поднимали головы или настораживали уши, но ни один не залаял. Белые облака лежали в синем небе и, казалось, даже они не имели сил двинуться.
Знакомая изба встретила его тишиной, и пока Завид раздумывал, к кому из соседей зайти за вестями, прилетел взмокший Божко.
— Тебя ищу, — выдохнул он. — Умила-то с матерью уехали, всем сказали, к родичам в Каменные Маковки, да у них там родичей-то небось и нет! В Перловку отбыли, я думаю. Да тут ещё у реки тятька нашёл поутру, вот…
И он подал берестяной листок. Завид взял его, разгладил и прочёл криво написанные слова: «В Перловку приходите, в поле клады поищите в день Купалы».
— Это что ж там затевается-то, а? — с любопытством спросил Божко. — Какие такие клады?
— Любопытно, — сказал Завид, нахмурясь. — Так, говоришь, у реки нашли?
Божко кивнул.
— Там, где тятя верши ставит, ближе к мосту, — указал он рукой.
— Добро, я погляжу…
— Так что затевается, ведаешь? А клады искать пойдёшь? И кто бы принёс бересту, не водяницы ли? Мы трёх увезли, да их, может, больше было!..
Видно, он никуда не собирался идти, оттого Завид послал его добыть мешок для кладов.
— Да самый большой сыщи, — велел он и, наконец оставшись один, поспешил к реке.
Близ моста, у крутого заросшего берега лежали серые валуны, будто овцы шли через брод на тот берег. За ними от леса спускались сосны, хотели нагнать.
— Рада! — позвал Завид, остановившись и приложив ко рту ладони. — Рада!
«Рада!..» — полетел отголосок над шумливой водой.
Она показалась тут же, будто ждала. Оперлась локтями на камень, свесила рыжие косы — две, как у мужатой жены, да голова не покрыта. Лицо задумчивое, печальное.
— Мы будто видались, — говорит она ему, — да где же? Отчего так больно о том вспоминать?
— Иное вспомни, — сказал он, протягивая бересту. — Ты разносила, твоя работа?
Она пригляделась и ответила:
— Моя. Богатырь из Перловки приходил, сказал, чтобы разнесла, — и невесело улыбнулась, качая головой. — Да каков богатырь! Василием кличут. Небось и меча в руках не держал, из лука стрелу пустить не сумеет. Ырка его подрал, после он в лесу заплутал, кое-как выбрел к этому берегу. На счастье, мы с Ярогневой его увидали, она народ созвала, унесли его. Ох, да ведь ырке тому за всё время никто не попался, токмо один этот богатырь!
Она с досады хлопнула по камню ладонью.
— Так что ж, слёг богатырь? — спросил Завид, нахмурясь. — Шибко изранен он?
— Да уж оклемался, приходил, корзину с берестой и принёс, — певуче ответила Рада. — Да лучше б не приходил. У меня с его слов ровно заноза в груди засела, болит…
И спросила задумчиво, будто даже не у Завида, а у себя самой:
— Кто таков Тихомир? Отчего так тяжко, так больно о нём вспоминать? Отчего мне так горько, что я забыла?
Видит Завид, худо ей, и об ином расспрашивать взялся. Хочется ему знать, что богатырь затеял, для чего он в Перловку людей зовёт. Рада и рассказала: он, мол, из иных краёв, где нечисти никто и не видывал, оттого и решил из Перловки сделать место заповедное, куда люд будет ходить, на кикимор да водяниц глядеть. И не втолкуешь ему, что затея нехороша, что никто и не явится… Да, может, разве что клады искать захотят.
— Да для чего ж он такое затеял? — дивится Завид.
— Колдун на Купалу явится, — сказала Рада. — Думает, о царевиче уж все позабыли, хочет его погубить, оттого богатырь и сзывает в Перловку весь окрестный люд. Может, при честном народе не сумеет колдун сотворить дело чёрное… Да где же мы прежде с тобою видались, милый?