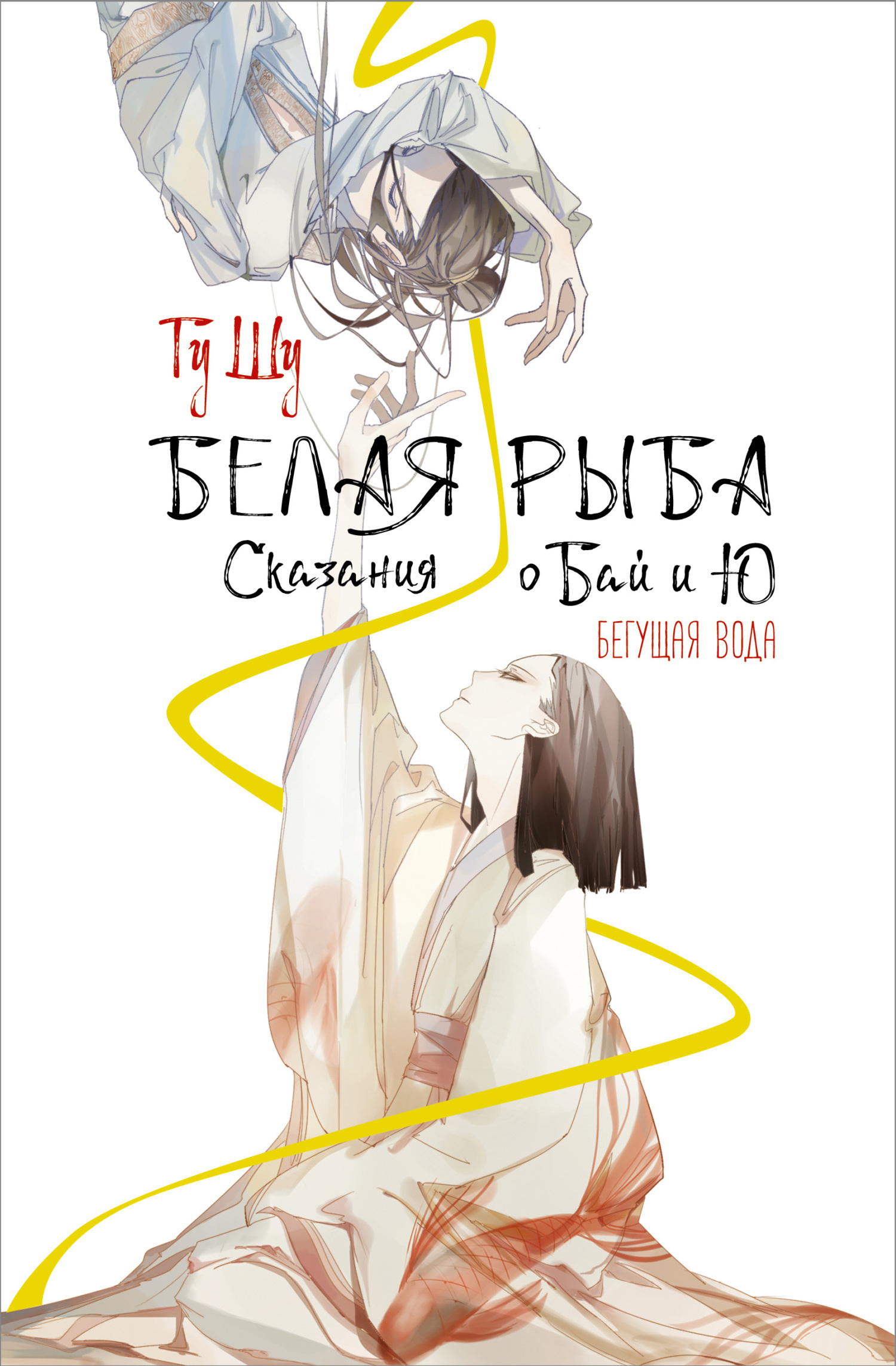что ты человек, а только знала, что мне с тобою тепло. Ты поглядишь, будто всё понимаешь, мне и хочется обо всём сказывать, только бы ты слушал. А как уберёг меня, помнишь? Я и посейчас не ведаю, кто же той ночью явился…
— А после ты думала, это опять он пришёл, и Добряка изругала, — усмехнулся Завид.
— А после ты человеком стал и за мною бежал в одном тулупе, — лукаво напомнила Умила. — Нагнал бы, что сделал?
— Цветок у тебя был в волосах, вот здесь, — сказал он, ласково касаясь рукой. — Я им дышать хотел. После лёг бы тебе на колени, чтобы ты мне песни пела. Дикий ведь был и глупый, даже не понял, что испугал тебя, лишь обидно стало до слёз. Думал, ежели ты бежишь, так я тебе боле не надобен.
— Надобен, — прошептала она. — Ты один и надобен, и не смей того забывать!
Воет холодный ветер, гонит речную волну, клонит старые вишни за корчмой. Там, под вишнями, двое прильнули друг к другу. Завид Умилу крепко обнял, к себе прижал, то целует её глаза, то руки, то губы, то глядит на неё — наглядеться не может. Она всё шепчет ему что-то, всё улыбается, пальцы в его волосах запутались.
Рядом лежат недочищенные котлы, и Невзор из-за угла поглядывает сердито, потому как ему надобны эти котлы, а подойти неловко. Топчется, топчется — вот отошёл, крикнул:
— Дарко! Поди-ка сюда, дело есть…
А Дарко уж куда-то завеялся. Ходит Невзор у сарая и кричит, чтобы на берегу слышно было:
— Не видал ли ты моих котлов, Дарко? И где бы это были мои котлы? Вишь, не могу сыскать! Котлы-ы!
С того дня Завид за двоих трудился, да всё с улыбкой. Гостей за стол усадит, миски поднесёт, да следит, чтобы скатерти были чисты и пол выметен, да глядит, довольно ли припасов в коморе. Печь ещё выбелил и цветами расписал, как в Белополье, в корчме видал.
— Гляди-кось, ощипанная кура без головы, — засмеялся Дарко, едва углядел. — А это шапка наизнанку.
— Может, хоть ты уймёшь этого бестолкового? — заворчал Невзор. — Дождёмся, что он нам крышу снимет и заново крыть начнёт, а то избу разберёт по брёвнышку да переложит, как ему ровнее покажется. Вишь, работник сыскался!
Завид и котлы всё-таки вычистил. А о богатыре уж и совсем забыл. Так и ещё зима прошла.
Весною дороги просохли, он в Белополье поехал. И за припасами, и колечко Умиле купить. Он уж знал, какое хочет: с узором, как первый снег на болоте, поверху гладкое серебро, а понизу червлёное, будто ветви сплетаются. Мастера отыскал, растолковал, что хочет, задаток дал.
После на торгу по рядам побродил, приискал, что хотел. Лоточник, что травами торговал, на него налетел, толкнул — невнарок вышло, сердиться нечего. Люд вокруг о разном толкует, да видно, что всё спокойно. О нечисти не говорят, и никто уж не вспоминает о Тихомире, о его жене и дочери, будто их и не было.
Завид уж до корчмы дошёл, как заметил, что к груди пристала травинка. Он и потянулся, чтобы убрать. Тут сердце страх обжёг, в ушах будто голос звенит: не бери! — да поздно, коснулся. Ноги вмиг ослабели. Пошатнулся он, только и успел последним усилием разорвать ворот рубахи.
Всё поплыло перед глазами, горло сдавило — от проклятия ли, от отчаяния? Крик людской поднялся, визг. Как бежал, Завид не помнил, обнаружил себя уж в полях. Кое-как стащил рубаху да пояс. Рубаху бросил, а пояс на шею надел: его Умила дарила, жалко. Явился он к Невзору с повинной головой, ведь ни лошадь, ни телегу забрать не смог, без припасов, без единой монеты вернулся.
Дарко с Пчелой тогда оседлали коней да в Белополье поспешили. Вышло не так и худо: корчмарь придержал телегу с лошадёнкой да сберёг мешок муки, купленный Завидом, вот только мошна пропала. Корчмарь-то, видать, уже догадался о чём-то — он прежде не раз видал чёрного волка, и Дарко был ему знаком. Всё, что сберёг, вернул, а взамен попросил только правду рассказать. После долго качал головой.
Вот уж вернулись Дарко и Пчела.
— Ну, не грусти! — говорят волку. — Обошлось, почитай всё и вернули. Надо было нам, значит, вместе ехать, да кто ж подумать-то мог…
А волк об этом одном только думать теперь и мог. Откуда бы у лоточника купальские травы? Ведь их и сбирать не время. Знать, такое его везенье, травы эти так сами к нему и липнут. Знать, никакой жизни ему не будет…
Больше он не хотел выходить из сарая и не вставал. Чёрная шерсть потускнела, свалялась, бока запали. Бывало, похлебает воды, ненадолго выйдет во двор, да и ляжет опять, уткнувшись мордой в угол. Ёрш заходил, рубаху ему отдал, ту, детскую, матерью вышитую. Помолчал, посидел да ушёл. Да что рубаха? Она уж чужими руками пропахла…
Дарко приходит его веселить, Горазд подбодрить пытается, рыжий Мокша всё заглядывает и в затылке чешет, Невзор что-то ворчит да мочёные яблоки носит — волк на них и не глядит, не шелохнётся. Умила над ним плачет, бьётся, ему её жаль, ради неё встанет, лбом её боднёт, да опять со вздохом ляжет.
Забегает Божко, тормошит его, говорит:
— Айда взапуски по берегу! Ну, кто быстрее? Да хоть выйди, ночь-то какая лунная, в реке вода тёплая!
Волк отвернётся только — уйди, мол.
А Божко всё ходит. В другой раз придёт, скажет:
— В лесу-то каково хорошо нынче! У опушки, где берёзки да клёны растут, будто жёлто-алый ковёр, да ещё туман — ох, какой там воздух! Да я и тебе принёс, хоть понюхай.
И охапку листьев у морды кладёт.
Дивится волк: это что ж, и лето прошло? И лето?.. И тянет выйти, бежать туда, в туман, по волглым палым листьям, дышать всей грудью… Да куда бежать? Зачем бежать? Он отворачивается и засыпает.
В один из дней кто-то забросал его снегом. Это Дарко чистил двор и решил подшутить. Вышел волк, отряхнулся, чуть подышал морозным воздухом, да и ушёл в сарай.
Он и не понял, что зима давно осталась позади. Ему стало худо, он выл от боли, а после хотел кого-то найти — и упал. Только слышал крики, только видел, как встревоженное лицо Умилы то появляется, то исчезает во тьме. Боль ломала каждую косточку в теле, наживо срывала кожу, заставляла его, задыхаясь, биться на покрытом соломой полу.
Боль неохотно отпустила. Он лежал, тяжело дыша, и видел свою руку