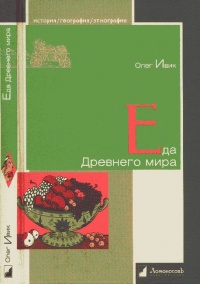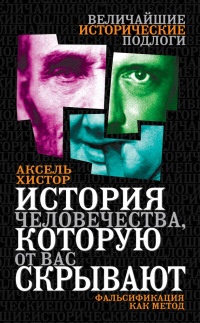— Это стоимость цветка: четыреста шестьдесят флоринов, — объяснила Харриет.
Старший брат поглядел на нее недоверчиво:
— Откуда ты знаешь, малышка?
— Мне Сольвейг сказала.
— Та самая твоя подружка, которая заказывает картины с цветами?
— Да. У нее есть похожие рисунки, и на некоторых я видела надписи.
Все замолчали. Четыреста шестьдесят флоринов! Да за такие деньги можно купить на рынке в Энкхейзене трех откормленных телят, их хватило бы, если б мы вздумали запасти двадцать шесть тонн пшеницы, шесть бочек вина, четыре тысячи фунтов сыра!.. Виллем разволновался: не было на свете музыки, более для его слуха внятной, чем звон золотой монеты, и ничто другое не могло так же сильно его заинтересовать. Потому, когда старший брат снова заговорил, голос его прозвучал решительно и почти резко:
— Ах, вот оно что! Четыреста гульденов?
— Четыреста шестьдесят, — сдержанно поправила младшая сестра.
— Красивая сказка! Да если бы он был из золота, и то в шесть раз меньше бы стоил!
— Такие сделки заключаются в тавернах каждый день, и этот сорт еще не из самых дорогих. На самом деле в наших краях встречаются люди, настолько влюбленные в тюльпаны, что тратят, украшая ими свой сад, целые состояния.
— Как это так? Яспер ведь говорил, что на рынке тюльпаны чуть ли не даром отдают…
— Ну и что, Виллем? — Петра вздохнула, ей уже прискучило толковать с братом-тугодумом. — С цветами — как с тканями. У крестьян штаны из дешевых тряпок, а у принцев из драгоценных шелков и бархатов!
— Конечно! — подхватила младшая. — Простые красные или желтые тюльпаны стоят недорого, но, когда у цветка непривычная окраска и причудливый узор на лепестках, — это настоящее сокровище на стебле! Впрочем, — прибавила она, — теперь ценителя находит любой тюльпан, даже самый невзрачный. И сколько бы садовники их ни выращивали — покупателям все мало!
— Как знать… — мечтательно проговорила Петра. — Может быть, этот Admirael Van Engeland, который сегодня оценивают в четыреста гульденов, к осени подорожает вдвое?
Взгляды всех четверых сошлись на рисунке Юдифи Лейстер. Бумага не совсем распрямилась, и в мерцающем свете изображение выглядело объемным. От этой ли странности, оттого ли, что наступила глубокая тишина, или от душистого табачного дыма, но им почудилось, будто они участвуют в магическом обряде, который совершает Виллем. Яспер вгляделся в лицо брата, но не прочитал на нем никаких чувств, только и видно было, как взгляд его бледно-голубых глаз под полуприкрытыми веками мечется по рисунку.
— Сестры, милые, да вы просто ума лишились! — воскликнул младший брат. — Мне и подумать страшно о таких цифрах, какие вы называете запросто, словно они до смешного малы… Четыреста флоринов! Всего-то! О чем тут говорить! Знаю, отец держал вас вдали от прозы жизни, ну так давайте я вам расскажу, что двенадцатифунтовый каравай хлеба продают за восемь стёйверов, а гладильщик за день зарабатывает десять, и даже если он будет трудиться с утра до вечера, за два дня работы у него едва наберется флорин! Не правда ли, для нас привычнее расчеты на таком уровне?
Виллем поглаживал большим пальцем теплую чашечку трубки. Он не знал, к кому присоединиться. Старшему брату нравилась осторожность младшего… да и отец, будь он сейчас здесь, сказал бы, наверное, то же, что Яспер… но, с другой стороны, ему так хотелось разделить оптимизм сестер, разделить с ними надежду на легкие деньги… В конце концов он медленно проговорил, не выпуская трубки изо рта:
— Разве можно поверить, что солидный и разумный человек, допустим, бургомистр Утрехта, вывернет карман ради обладания…
— Этим цветком? — закончила вместо него Петра.
— Этой луковицей! — поправила Харриет. — Потому что летом торгуют луковицами.
— Вот этот черный, весь в земле комочек, который я получил от ректора? — сжав кулак, переспросил Виллем. — Вот он стоит четыреста шестьдесят гульденов?
Девочка кивнула. Старший из братьев Деруик живо вскочил со стула и ткнул в сестру пальцем, как будто хотел в чем-то ее обвинить. Открыл рот, собираясь что-то сказать, но лишь беззвучно пошевелил губами. Потом сунул в карман еще не остывшую трубку и опрометью бросился в сад.
— Где вы ее посадили? Где? Где? — кричал он, сбегая по ступенькам.
Сестры, путаясь в юбках, выскочили следом.
— Виллем! Что с тобой? — закричали они, высматривая в темноте светлую фигуру.
— Да где же она?
— Кто?
— Где луковица, черт возьми!
Петра пошла на голос и вскоре увидела брата: стоя на коленях, он голыми руками рыл влажную землю. Шорох сыпавшихся комьев и бормотание Виллема в темноте казались на удивление громкими, будто кабан ворочался в подлеске.
Прибежал Яспер с факелом, и дрожащее пламя высветило картину, какая разве что в страшном сне привидится: молодой человек, вымазанный в земле до самых волос, кружится на четвереньках в вырытой им норе, с каждым мгновением расширяя ее яростными взмахами рук.
— Братец! — в ужасе закричала Харриет.
Виллем расхохотался, словно помешанный.
— Где эта чертова луковица, скажешь ты мне, наконец? Куда вы ее дели?
— Какая разница?
— Что значит «какая разница»! Ты предлагаешь оставить четыреста шестьдесят флоринов в земле, чтобы они там сгнили? Предлагаешь скормить такое богатство червям?
— Но ты… ты ведь, кажется, нисколько ее не ценил?
— Я же не представлял себе, сколько она стоит!
И Виллем еще усерднее взялся за дело, горстями швыряя землю и не замечая, что комья летят в сестер. Яспер попытался унять брата:
— Бога ради, Виллем, перестань, умоляю тебя! Если тебе так уж хочется копать, продолжишь завтра, при свете дня…
— Ни за что! Слышишь? Я найду эту проклятую луковицу, даже если мне придется переворошить дюйм за дюймом всю землю от крыльца до ворот и докопаться до самого свода преисподней!
Яспер вопросительно глянул на Петру, воткнул факел в землю рядом с братом и направился к дому, поманив сестер за собой. Виллем остался один.
Его не было довольно долго, но наконец дверь с грохотом распахнулась, и с порога на стол полетел комок грязи: брат и сестры узнали луковицу тюльпана.
— Один раз я ее уже откопал, сегодня второй! — задыхаясь, проговорил Виллем. — Теперь пусть она вытащит нас из грязи! Отец был прав: для нашей семьи начинаются славные времена, и зародыш этой славы — здесь, перед вами…
Каждый Божий день, независимо от того, хмурилось небо или улыбалось, много или мало намечалось неотложных дел, Паулюс ван Берестейн и его сын Элиазар совершали пешую прогулку по городу. Люди должны были считать, что они гуляют ради здоровья, в первую очередь — чтобы побороть досадную склонность к полноте, на самом же деле целью прогулки было наблюдение за восемью довольно далеко один от другого расположенными домами, которые Паулюс сдавал внаем.