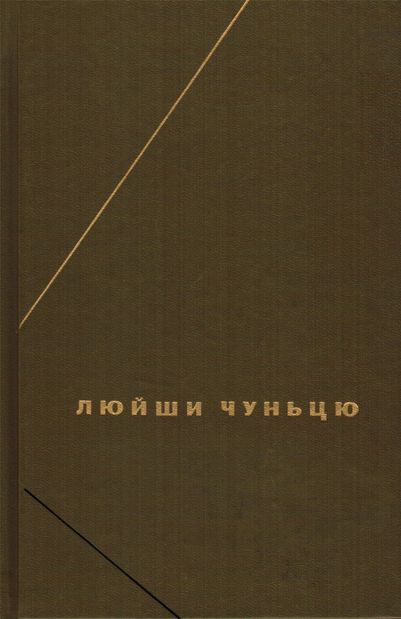суток плавания очутился близ места, где родился. Меня не было здесь приблизительно пять лет. Однако само место я помнил очень хорошо. Мне было около пяти лет, когда я покинул его, перебравшись со своим хозяином на плантацию полковника Ллойда: так что сейчас мне было где-то 10 или 11 лет. Всех нас выстроили вместе для оценки. Мужчин и женщин, старых и молодых, женатых и холостых поставили в один ряд вместе с лошадьми, овцами и свиньями. Всех – жеребцов и мужчин, овец и женщин, поросят и детей, ничем, по сути, не отличавшихся друг от друга, – подвергли тщательному осмотру. Стариков и юношей, девушек и матерей семейств осматривали, не смущаясь ничем. В этот момент я более ясно, чем когда-либо, увидел разрушительное воздействие рабства как на раба, так и на рабовладельца.
После оценки имущества перешли к разделу. У меня нет слов, чтобы выразить то возбуждение и тревогу, которые чувствовались среди нас, бедных рабов, все это время. Сейчас решалась наша судьба. Мы были безмолвны, как и животные, стоявшие с нами в одном ряду. Одного-единственного слова белого человека было достаточно – против всех наших желаний, молитв, просьб, – чтобы навсегда разлучить дорогих друзей, близких родственников и разрушить самые сильные узы, какие только известны человеку. Вдобавок к горечи разделения существовала еще и страшная боязнь попасть в руки к массе Эндрю. Всем нам он был известен как самый жестокий негодяй – обыкновенный пьяница, который своим безрассудством и расточительством пустил по ветру большую долю имущества своего отца. Все мы чувствовали, что однажды нас могут так же продать торговцам из Джорджии, как и отдать в его руки; зная, что это неизбежно, мы были обуяны страхом и ужасом.
Я тревожился больше, чем многие из моих собратьев по рабству. Мне было знакомо любезное обращение; они же ничего не знали о доброте. Они почти не видели или вообще не видели мир. В сущности, это были люди скорби, знающие горе и беду. Их спины так привыкли к хлысту, что не чувствовали его ударов; моей же спине это было незнакомо; там, в Балтиморе, меня наказывали мало, и мало кто из рабов мог похвастаться добротой своей хозяйки или хозяина, как я; и мысль о том, что из их рук я попаду в руки массы Эндрю (человека, который несколькими днями прежде показал свой жуткий нрав: схватил моего младшего брата за горло, повалил на землю и каблуком сапога бил по голове до тех пор, пока кровь не хлынула у него из носа и ушей), заставляла меня беспокоиться о моей судьбе. Жестоко надругавшись над ним, он повернулся ко мне и сказал, что это единственное, на что я вскоре сгожусь, – подразумевая, по всей видимости, что стану его собственностью.
Благодаря всемогущему Провидению, меня отнесли к доле миссис Лукреции и немедленно отослали в Балтимор, опять в семью массы Хью. Они радовались моему возвращению так же, как и печалились, когда я уезжал. Для меня это был радостный день. Я избежал большего, чем пасть льва. Я отсутствовал в Балтиморе по известным причинам лишь около месяца, а кажется, прошло все шесть.
Очень скоро после возвращения в Балтимор моя хозяйка Лукреция умерла, оставив после себя мужа и дочь Аманду; а вскоре скончался и масса Эндрю. Теперь вся собственность моего старого хозяина, включая рабов, находилась в руках незнакомцев, людей, которые не сделали ничего, чтобы накопить ее. Ни одного раба не было отпущено на свободу. Все, от мала до велика, остались рабами. Если и есть что-то в моем опыте, что более всего остального усилило мое убеждение в бесчеловечном характере рабства и наполнило меня ненавистью к рабовладельцам, так это их подлая неблагодарность к моей бедной старой бабушке.
Она служила старому хозяину верно всю жизнь. Она была источником всего его богатства; она заселила его плантацию рабами; из всего его окружения она единственная стала прабабушкой. Она убаюкивала его еще младенцем, присматривала за ним в детстве, прислуживала ему всю жизнь, в смертный час утирала с его покрытого льдом лба холодную испарину и закрыла ему глаза. Тем не менее осталась рабыней на всю жизнь – в руках чужаков; и в их же руках она видела своих детей, внуков, правнуков, разделенных подобно овцам, не порадовав себя даже такой малой привилегией, как обмолвиться словом жалости об их или своей судьбе. И верхом их подлой неблагодарности и дьявольской бесчеловечности стало то, что мою бабушку, которая была уже очень старой, пережившую прежнего хозяина и всех его детей, видевшую рождение и конец каждого из них, ее теперешние владельцы, найдя, что она не представляет собой особой ценности, что старческие болезни почти истощили ее тело и она, некогда проворная, уже полностью беспомощна, отправили в лес и, построив для нее маленькую хижину с дымной печуркой, предоставили ей право самой заботиться о себе, предав, таким образом, в руки смерти. Если моя бедная старушка еще не умерла, она живет, страдая от полного одиночества; она живет, помня и горюя о потерянных детях, потерянных внуках, потерянных правнуках.
Они, выражаясь языком аболиционистского поэта Уиттиера,
В рабство проданы, в рабство угнаныВ топи рисовые, на поля дальние,Где плеть господствует весь день,Где нет спасенья от водней,Где лихорадка сеет яд,Где солнцу, что палит, не рад.В рабство проданы, в рабство угнаныВ топи рисовые, на поля дальниеОт холмов и озер Вирджинии —О, горе мне, мои украденные дочери![12]
Домашний очаг безлюден. Дети, бестолковые дети, только что певшие и танцевавшие рядом, покинули ее.
Она нащупывает свой путь в темноте возраста, чтобы испить глоток воды. Вместо детских голосов днем она слышит воркованье голубя, а ночью уханье отвратительной совы. Все покрыто мраком. В дверях стоит смерть. И сейчас, когда тяготят страдания и старческие боли, когда голова склоняется к ногам, когда встречаются начало и конец человеческого существования и детская беспомощность и тягостная старость сливаются воедино, в это время, в эту самую насущную пору, когда требуется проявить заботливость и нежность в отношении преклонного родителя, моя бедная старая бабушка, преданная мать двенадцати детей, оставлена всеми одна вон в той лачужке, перед тлеющими в золе угольками. Стоит ли она, сидит ли, идет ли, пошатываясь, падает ли, стонет ли, умирает ли – рядом нет никого из ее детей и внуков, чтобы вытереть холодный смертный пот с ее морщинистого лба или предать земле ее бренные останки. Разве не накажет за все это праведный Бог?
Через два года после смерти миссис Лукреции масса Томас женился второй раз. Ее звали Роуэна Гамильтон. Она была старшей дочерью мистера Уильяма