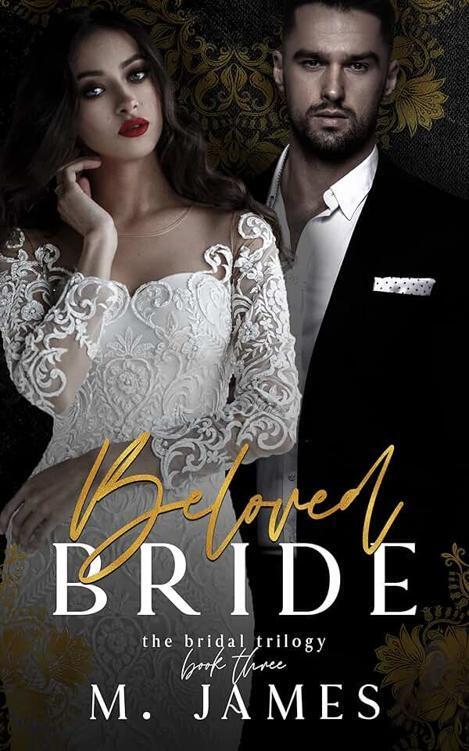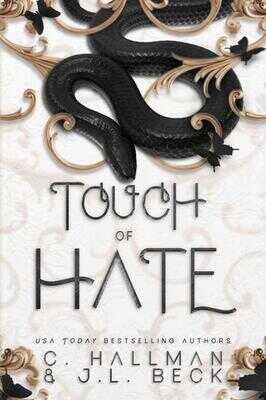По сути, это то, что я делаю, когда мои похитители открывают заднюю дверь фургона, так, что ослепляющие прожекторы освещают пространство и заставляют меня вздрагивать, зажмуривая глаза.
— Даже не думай вытворять какие-нибудь из своих трюков. — Теперь, когда мы стоим лицом к лицу, я вижу водителя и шрам, идущий от его правого глаза вниз по щеке. На это нелегко смотреть, но я заставляю себя сделать это, молча глядя на него. Что он сделал, чтобы заслужить его?
— Она все еще думает, что выберется из этого, — предсказывает его друг. Они оба смеются, вытаскивая меня из фургона, позволяя упасть на землю без возможности удержаться или предотвратить падение. Я приземляюсь достаточно сильно, чтобы выбить дыхание из моих легких, и наступает один дикий, ужасающий момент, когда я боюсь, что больше не смогу дышать, когда я не смогу вдохнуть ни капли воздуха. Я могу только ахать, в то время как мои похитители смеются громче, чем когда-либо. Все, что я могу разобрать, это их тени, нависающие надо мной, черные на фоне неба, такого яркого, что оно почти белое. Надеюсь, я увижу, как они умрут. Надеюсь, я услышу их крики до того, как они умрут.
— Чего ты ждешь? Приведи ее ко мне, сейчас же.
Мне не нужно говорить, кому принадлежит этот резкий голос. Воздух, который мне наконец удается втянуть в легкие, теперь кажется ледяным, но я изо всех сил стараюсь быть сильной, когда меня поднимают на ноги, а затем тащат, благодаря тому, что мои лодыжки все еще связаны. Я намеренно позволяю своему телу обвиснуть между двумя мужчинами, отчего нести меня становится еще тяжелее, но эта детская уловка далеко меня не заводит. Не успеваю я опомниться, как оказываюсь у ног не кого иного, как самой Ребекки.
— Посмотри на себя. — Носки ее кожаных туфель — побитых и изношенных — оказываются всего в нескольких дюймах от моего лица, прежде чем мужчины, стоящие вокруг нас, ставят меня на колени.
— Да, — бормочет один из мужчин. — Ты должна встать перед ней на колени. На глазах у всех нас.
— Этого будет достаточно, Джошуа. — Я не могу сказать, звучит ли Ребекка устало или ей скучно. — В дополнительных комментариях нет необходимости. Это касается только меня и нашей гостьи. Я уверена, что после путешествия у вас остались дела по дому.
Это кажется неправильным — прилив удовлетворения, который приходит от того, что я слышу, как его ставят на место. То, как он заикается позади меня, еще лучше.
— Разве тебе не нужно…
— Я дам вам знать, что мне нужно, и в данный момент мне нужно, чтобы вы вернулись к своим обязанностям. Вы оба, — добавляет она, вздергивая подбородок. — Продолжайте.
Говоря это, она присаживается на корточки, останавливаясь только тогда, когда мы оказываемся лицом к лицу. В ее одежде и длинной косе, перекинутой через плечо, все еще чувствуется атмосфера Маленького домика в Прериях.
Я смотрю в лицо злу, но не могу отвести взгляд. Я не позволю себе этого. Люди, которые жили здесь, подвергались насилию и умерли, не могли позволить себе такую роскошь, как отвернуться. Если это последнее, что я когда-либо сделаю, будь я проклята, если закончу тем, что буду плакать, хныкать или молить о пощаде, которая никогда не наступит.
Все, что я могу сделать, это смотреть на нее, наблюдая, как ее тонкие губы подергиваются как будто в улыбке, если бы у нее была душа. Это больше похоже на гротескную пародию, на что-то гнилое, леденящее душу.
— Итак. Мы снова встретились. — Ей действительно удается говорить почти мило. — Я так надеялась, что мы увидимся еще раз.
— Ты хоть представляешь, кто мой отец и что он с тобой сделает, если ты хоть пальцем меня тронешь?
— Я хорошо знаю, кто твой отец и как он раньше пытался разрушить нашу маленькую общину. Это ты не понимаешь, какой властью я обладаю, моя дорогая.
Когда я не отвечаю, только свирепо смотрю на нее, она встает и откашливается.
— Несколько ударов кнутом расслабят тебя, — решает она. У меня едва хватает времени осознать это, прежде чем две пары рук хватают меня под мышки и поднимают на ноги. Я даже не знаю, откуда они взялись. Должно быть, они стояли на страже у двери. Двое мужчин практически несут меня в один из длинных домов. Не имеет значения, что я лежу на них мертвым грузом. Они слишком сильны и, вероятно, слишком хотят понаблюдать, как меня накажут.
Не может быть, чтобы речь шла о настоящей порке. Я отказываюсь в это верить.
Оказывается, не имеет значения, во что я отказываюсь верить. Ничто не мешает им отвести меня внутрь, где окна заклеены картоном и почти нечем дышать. Здесь затхлый воздух, но что еще хуже, так это запах крови и мочи.
Только когда они развязывают мне запястья и швыряют лицом на скамейку, до меня наконец доходит. Они не блефуют. Не тогда, когда один из них оборачивает кожаные наручники вокруг моих запястий, чтобы зафиксировать мои руки на нижней стороне скамьи.
— Нет, — ворчу я, пытаясь встать, но терплю неудачу, когда чья-то рука толкает меня в середину спины.
Затем он поднимает мою толстовку, обнажая спину. Неподдельный ужас разрастается в моей груди и вырывается гортанным криком.
— Нет! Не делайте этого!
Я разговариваю сама с собой.
И как только начинается порка, как только моя кожа трескается и раскаленная добела боль поглощает каждую мою мысль, мой голос наконец срывается. Не то чтобы это имело значение.
Рядом нет никого, кто мог бы услышать меня, кому на самом деле было бы не все равно.
6
РЕН
Я не понимаю, что произошло.
Прошло уже несколько дней с тех пор, как я проснулся один в постели в хижине с раскалывающейся головой. Я до сих пор не знаю почему, и тупая боль, от которой я не могу избавиться, является постоянным напоминанием о том первом ужасном моменте, когда я узнал правду.
Она бросила меня. Все ее разговоры о том, что она хочет остаться со мной, что мы двое против всех, все это ложь. Я не хочу в это верить, но доказательства как бы у меня перед глазами. Я не могу это игнорировать. Она даже не оставила записки, чтобы объяснить, почему сбежала. Она просто…ушла.
Зато Ривер оставил записку. В ней он расписал все, чем они занимались, когда я, должно быть, был без сознания после того, что вызвало у меня такую