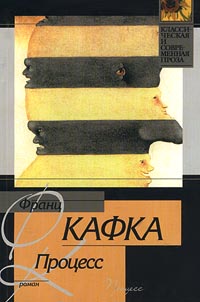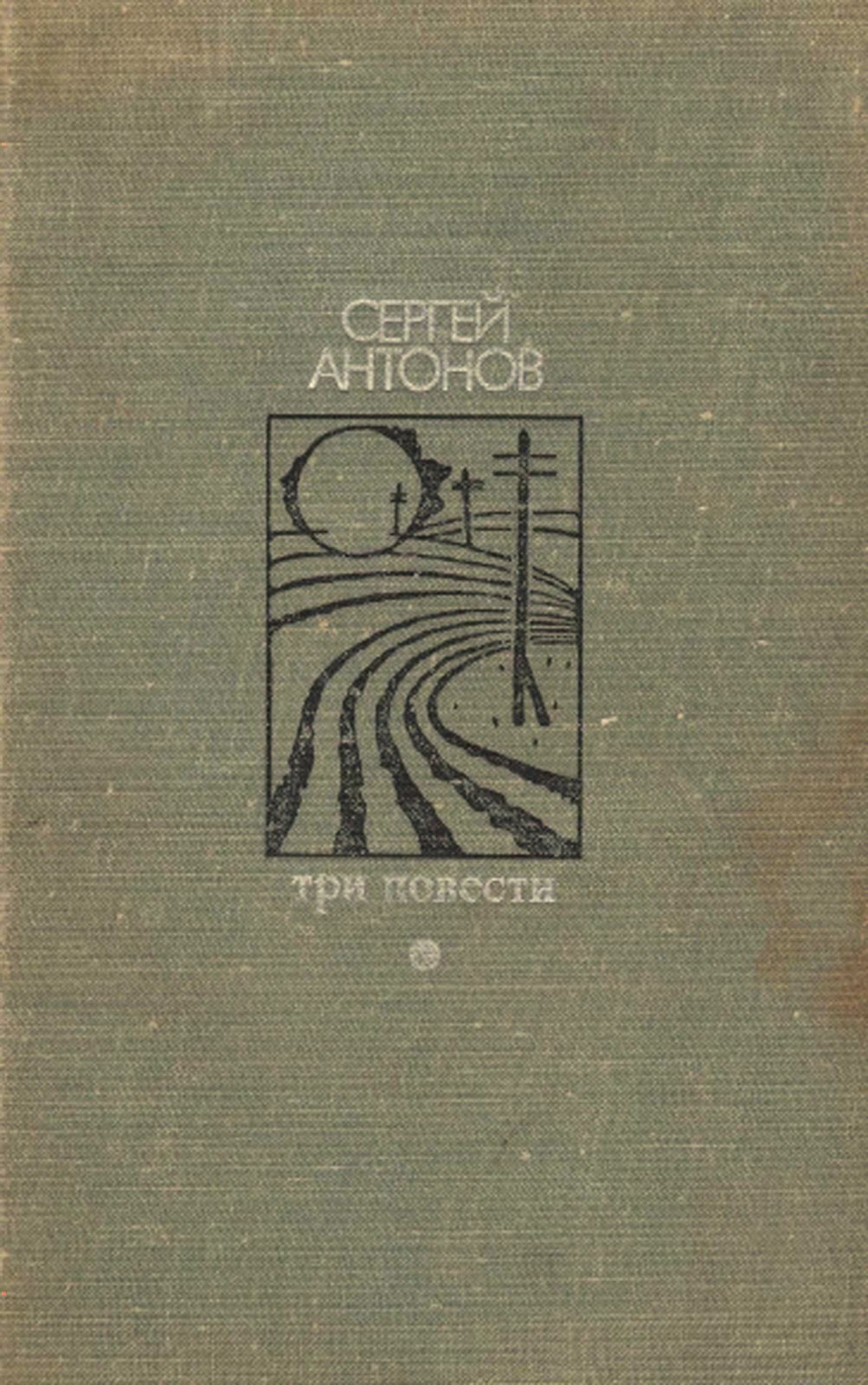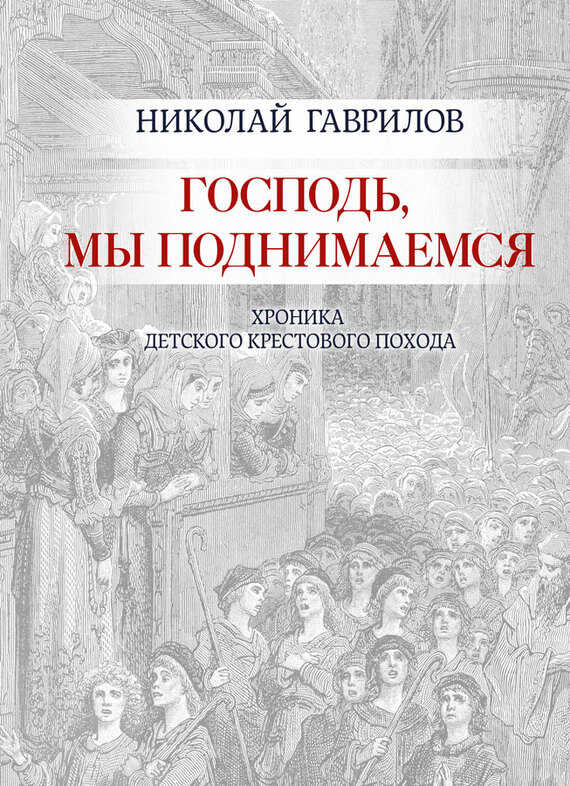поблуждав немного по Шевченковскому бульвару, решил всё же навестить Надийку, которая жила у подруг неподалёку от Крытого Рынка. Жила она в одном из древних домиков, которые можно неожиданно встретить в Киеве рядом с шестиэтажной каменной громадой. Зелёная заржавленная крыша, деревянные наружные ставни, патриархальный палисадник под окнами и провалившиеся ступеньки перекошенного крыльца говорили о большей давности, чем та, которую признаёт право на украденные и утерянные вещи. Но Степан обрадовался, увидев эту хибарку, — в сравнении с ней его собственный хлев не казался таким жалким, и девушка, жившая в ней, вполне законно могла ему принадлежать.
Надийка жила у двух землячек из своего села, которые годом раньше отправились в широкий свет и наняли в этой старосветской квартире так называемую гостиную. Одна из них, Ганнуся, училась на курсах кройки и шитья. Это была тихая девушка, выгнанная из села бедностью большой семьи, выгнанная навсегда, без надежды вернуться под ободранную отцовскую крышу. Она была сердечной и беззащитной, немного романтичной, терпеливой в несчастьях, как все бедные девушки, которые не чувствуют в себе ни твёрдой воли, ни стремлений.
Её компаньонка, молодая кулацкая дочь, окончила курсы машинописи и уже полгода безнадёжно искала службу или жениха. Одевалась она с претензией, когда пила чай, жеманно оттопыривала мизинец. Из двух кроватей, которые нельзя было назвать английскими, одна принадлежала ей, и своего права собственности она ни в коем случае уступать не хотела, и поэтому Надийка должна была вое время спать вдвоём с Ганнусей. Две кровати, стол, швейная машина и старый стул — вот и всё имущество девушек. Остальные вещи были духовного порядка — портреты и картинки, которыми Ганнуся наивно обклеила стены, стараясь создать хоть какой-нибудь уют. Портрет Ленина, висевший в центре, она украсила большой надписью из неровных букв: «Ты умер, но дух твой живёт». В углу устроила маленькую иконку Николая чудотворца, малозаметную с первого взгляда. Из всех картинок Нюсе принадлежала только одна — оголённая Галатея, вздымающая к небу свои руки и грудь; она висела над Нюсиной кроватью и волновала Ганнусю своей непристойностью.
Ещё за дверями комнаты Степан услышал мужские голоса, и его сердце упало. Сейчас ему противны были весёлые люди, да и с Надийкой он мог поговорить только наедине. Но спасения не было, и он открыл дверь. Дело обстояло гораздо хуже, чем он мог себе представить. Тут была целая пирушка. На столе стояла бутылка, а вокруг на придвинутых кроватях сидели три хозяйки и трое гостей. Увидев это, Степан невольно похолодел, но сейчас же узнал среди них Левко и разобрался в чём дело: те двое — кавалеры Нюси и Ганнуси, Левко просто пришёл на угощение, а Надийка свободна, свободна для него, потому что она первая встала из-за стола и поздоровалась с ним. Он познакомился с молодыми людьми и тоже сел. Есть и пить Степан категорически отказался, хоть и не обедал сегодня и был голоден, но есть за счёт чужих молодых людей — пирушку-то, несомненно, устроили они — ему не позволяла гордость. Левко — другое дело. Он сидел в уголке, как посаженный отец, мало тратил слов, так как
рот его всё время работал, улыбался и благодушно поглядывал на общество, душой которого были два парня, щеголявших пред дамами своим остроумием.
Поклонник Ганнуси принадлежал к типу парней, появляющихся в породе метеором, посещающих театры, достающих всюду в порядке, смычки города с селом контрамарки, ходящих на все диспуты и вечера, устраивающих там бурные овации, на улицах пристающих к девушкам, над всеми смеющихся, всё ругающих, а через год возвращающихся в деревню, принимающихся за хозяйство и дичающих в один месяц. Из них выходят семейные деспоты и политические консерваторы. Козырем его поведения были сальные остроты и намёки, смущающие мечтательную душу Ганнуси и сламывающие её и без того слабое сопротивление. В сравнении с этим остряком его товарищ казался идеалом серьёзности. Он тоже обращал на науку мало внимания, основной целью его желаний было где-нибудь прочно устроиться, и если это возможно без диплома, то ВУЗ следует отсечь как ненужный придаток, вроде аппендицита. Тоскуя по прекрасным бурным годам, когда выдвинуться было так легко, он с железным упорством крестьянина стучался во все двери, используя случайные связи, и в конце концов попал на должность инструктора клубной работы, за которую держался руками, зубами и обеими ногами. Но, представляя себе жизнь по старому крестьянскому трафарету, бравый инструктор наметил барышню Нюсю в подруги своих будущих служебных подвигов.
Разговор, оборвавшийся на минуту из-за появления новой действующей особы, возобновился снова. Разговор шёл об украинизации.
— Что же, — заметил инструктор, — вот, к примеру, клубная работа. Серьёзное дело. И так рабочие носом
Крутят — сухо, говорят. А тут ещё «мова». Ну ещё драмкружок, хор, а дальше — тпру! Выходит, разрыв с массой. Трудно партии с украинизацией. Да!
Он сделал ударение на «партии», слове, имеющем, по его мнению, магическое влияние на фразу, в которой стоит.
— А крестьян тоже будут украинизировать? — робко спросила Ганнуся.
Инструктор мягко улыбнулся.
— Выходит, что и их нужно. Скажите но правде - какой из дядьки [Дядькой обычно называют немолодого уже крестьянина.] украинец?
Степан не выдержал и энергично вмешался в разговор.
— Вы ошибаетесь, товарищ, — сказал он инструктору, — украинизация должна укрепить смычку города с селом. Пролетариат должен…
Но молодой парень Яша, гастролировавший в городе, вдруг захохотал, бросив на Надийку и Степана насмешливый взгляд. Он всегда смеялся наперёд, собираясь сказать что-нибудь остроумное.
— Го-го-го! Так и у вас смычка?
Надийка покраснела, а Степан, оскорблённый за себя и за неё, мрачно умолк. Что он мог сказать этому нахальному молодцу, который чувствует себя здесь полным хозяином, размахивает руками, щиплет свою Ганнусю и всем подмигивает? Не драться же с ним тут! От голода и отвращения Степана всё больше томила тоска. Вот он, сельский актив, который должен завоевать город! Неужели судьба его — быть тупым, ограниченным рабом, продающимся за должности и еду? Неужто и его всосёт эта трясина, переварит и сделает безвольным придатком к ржавой системе жизни? Он чувствовал в себе стальные сильные пружины, осевшие было на рытвинах революции. И может быть, вся жизнь — только безостановочно бегущий поезд и никакой машинист не в силах изменить направления его движения по предназначенным рельсам между знакомыми серыми станциями? Остаётся неминуемо одно — цепляться за него, каков бы он ни был и куда бы ни вёл он свой однообразный путь. И не его ли символ