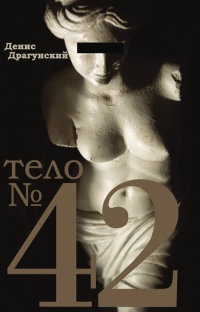Луиш-Бернарду в очередной раз восхитился тем, насколько молодо, почти ребенком выглядел принц: несмотря на то, что речь его вполне соответствовала его возрасту и образованию, которое он получал от гувернанток чуть ли не с пеленок, все это очень контрастировало с его детским лицом, которое было преисполнено искренней благодарности за предоставленные ему несколько дней настоящего праздника.
— Ваше Высочество, это я, от имени всех жителей островов, благодарю Вас за подаренную нам незабываемую честь, а также за огромную радость, которую и Вы сами наблюдали воочию. Я непомерно горд тем, что превратности моей судьбы и планы Вашего отца и моего Короля уготовили для меня, губернатора Сан-Томе и Принсипи, эту честь принимать здесь Ваше Высочество. Прошу Вас по возвращении передать Его Величеству, что не проходит и дня без того, чтобы я не вспоминал о нашем с ним разговоре в Вила-Висоза и о порученной мне тогда миссии.
— Я обязательно передам ваши слова. Обещаю.
Дон Луиш-Филипе обменялся с губернатором крепким рукопожатием. Затем, подняв руку, он в последний раз помахал собравшимся, поднялся по трапу на борт и, так же, как и ранее по прибытии, сел к рулю и приказал отдать швартовые. Айреш де-Орнельяш помахал губернатору уже из шлюпки, слегка наклонив голову и сделав едва заметный для остальных жест, который Луиш-Бернарду воспринял как ободряющий. Тем и завершились эти три адских дня.
Луиш-Бернарду оставался на причале еще какое-то время, наблюдая, как «Африка» маневрирует прежде, чем направиться в открытое море. Солнце уже начинало садиться за горизонт, когда черно-белый корабль лег на курс, выходя из залива, издал три громких гудка и двинулся в сторону заката, в объятия ночного океана. Губернатор стоял так до самого конца, один, еще более одинокий, чем когда-либо, ощущая себя единственным живым существом на этом острове, который будто неожиданно опустел, предоставив ему, посреди этого забытья и одиночества, искать следы, оставленные Энн, дабы не погибнуть от безумия.
XVII
Вслед за «Африкой» уплыли и последние надежды Луиша-Бернарду. Если он и ждал от министра или даже от Наследного принца твердой и недвусмысленной поддержки политики губернатора, которой столь враждебно сопротивлялись местные поселенцы, то теперь эти ожидания окончательно развеялись. И дело не в том, что министр каким-то образом, при всех или в частном разговоре, осудил его работу: он просто промолчал, и молчание его означало, как минимум, отсутствие этой поддержки. Оно оправдывало создавшуюся тупиковую ситуацию, оставляя губернатора и управляющих, к которым примыкал и попечитель Жерману Валенте, в их прежнем противостоянии. Единственным политическим козырем для Луиша-Бернарду могла бы стать гарантия или хотя бы надежда на то, что, благодаря его усилиям, отчет Дэвида не разрушит окончательно ожидания португальского правительства. Однако Дэвид сам выбил почву у него из-под ног. Министр говорит — желая оскорбить его, из соображений личной мести. Такая мысль никогда не приходила ему в голову: Луиш-Бернарду всегда верил, что Дэвид, даже если его отчет будет не в пользу Португалии, сделает это, основываясь на своих убеждениях, а не под влиянием причин личного свойства. Не столько во имя их былой дружбы, сколько, наверное, руководствуясь принципами «рыцарской чести», не позволяющей смешивать одно с другим. Да, это правда, что он, Луиш-Бернарду, предал друга, соблазнив его жену. Однако, впервые в своей жизни, он сделал это не по легкомыслию, не удовлетворяя свой каприз, тщеславие или банальную похоть. Он сделал это из страсти. Да и какой мужчина не влюбился бы в эту более чем фантастическую женщину, в которой всё было через край — от рвущейся наружу чувственности до пренебрежения светскими нормами? Где еще, если не в этом ее мире, инстинкты так беспредельны и ненасытны, а желания за день вырастают из нехитрого ростка в огромное дерево, негры гуляют без одежды, словно дикие звери, зной, усталость и одиночество постепенно растворяются и исчезают, не охраняемые принятыми в иных местах правилами и условностями, каждая женщина становится желанной для единственного, жаждущего ее мужчины, а появление Энн делает для него эту идиллию настоящей пыткой?..
Конечно, одно дело желать, и совсем другое — осуществить свое желание. Преодолеть это расстояние означает, прежде всего, нарушить нормы морали, а до этого — общепринятые условности. Однако, как известно, семейная жизнь Дэвида была особенной, и этого Луиш-Бернарду не мог объяснить ни министру, ни своим недоброжелателям. Конечно же, Дэвид видел, предчувствовал и догадывался, что это Энн, в первую очередь, стала инициатором их отношений. Она не чувствовала за собой каких-либо обязательств перед мужем, и именно эта ее внутренняя свобода оказалась для Луиша-Бернарду столь притягательной. Это было ценой, которую Дэвид согласился заплатить, чтобы оставаться рядом с ней. Потому что, если руководствоваться критериями нравственности, то он должен был потерять Энн гораздо раньше, когда запятнал ее честь там, в Индии. Она не бросила его, как и обещала, а он, в свою очередь, не сделал ничего, чтобы воспрепятствовать их отношениям с Луишем-Бернарду: таков был заключенный между ними негласный договор, служивший основой для их совместной жизни. Так разве мог Дэвид требовать от него того, чего не смел требовать от своей собственной жены? И теперь, когда оказывается, что и Энн влюблена в Луиша-Бернарду, кто же тогда поступает хуже? Ведь он, друг Дэвида, стал любовником и объектом страсти его жены, когда у него уже не было никакого морального права ей это запретить. С другой стороны, сам Дэвид продолжает требовать от Энн выполнения данного ему ранее обещания, зная при этом, что телом и душой она принадлежит другому. Тогда спрашивается, почему именно Луиш-Бернарду должен отступиться от Энн? Во имя чего и в обмен на что? Неужели ради какой-то абстрактной надежды на то, что это позволит рассчитывать на большую доброжелательность Дэвида по отношению к политическим интересам Португалии или к профессиональным интересам самого Луиша-Бернарду? Каким же словом следовало бы в таком случае назвать это «заинтересованное» отречение, эту мерзкую сделку, предложенную министром?
* * *
Разборка праздничных декораций — занятие, как правило, мучительное. Прибывшие из метрополии вернулись назад в Лиссабон регулярным рейсом, а принц вместе со свитой продолжили свое долгое трехмесячное путешествие в Анголу, Мозамбик, Южную Африку и потом, уже на обратном пути, — снова в Анголу и, наконец, на острова Кабо-Верде. На Сан-Томе после трех дней праздника осталось острое чувство грусти, ощущавшейся повсюду по мере того, как город освобождался от уличных украшений и керосиновых емкостей, установленных для обеспечения феерической ночной иллюминации. Город вернулся к тусклому освещению, которое обеспечивали редкие светильники, висевшие на фасадах домов и на пересечениях улиц, очищенных от целого моря пожухших на солнце цветов и деревянных арок, украшавших выезды на главные городские артерии. Остров снова оказался одиноким, задавленным Экватором и предоставленным своей извечной судьбе, ожидая, когда к нему причалят новые корабли.
Как и город, снимавший с себя праздничные одежды, Луиш-Бернарду также погрузился в безразличие и меланхолию. С некоторым удовлетворением он снова занял свою спальню на верхнем этаже, отданную на минувшие дни в распоряжение маркиза де-Лаврадиу. Дом возвращался к повседневной рутине с ее яркими и мрачноватыми часами, привычными звуками, тишиной и безоблачными ночами наступившего лета. Сам Луиш-Бернарду ощущал бездну и пустоту, абсолютную и вязкую тоску, пробиравшую его до костей, как болезнь. Он даже не выходил из дома, бродя по нему, словно неприкаянный, задыхаясь от того, что так медленно течет время и что даже ночной воздух с веранды не дает ему вздохнуть полной грудью. Он бродил по дому, без смысла, без цели. Если все пойдет нормально, думал он, ему здесь остается еще полтора года, ровно половина времени его ссылки, время, которое еще требовалось прожить.