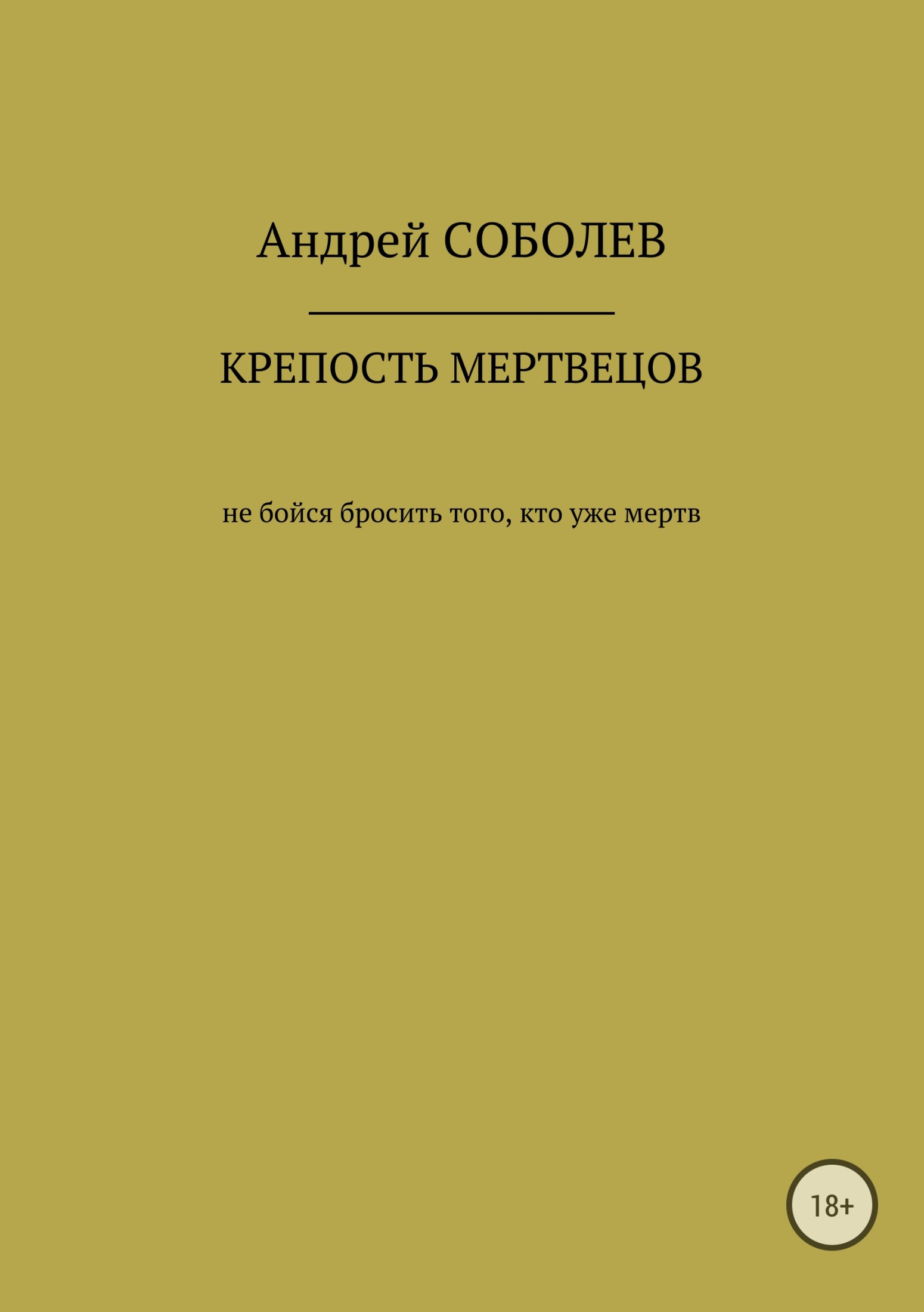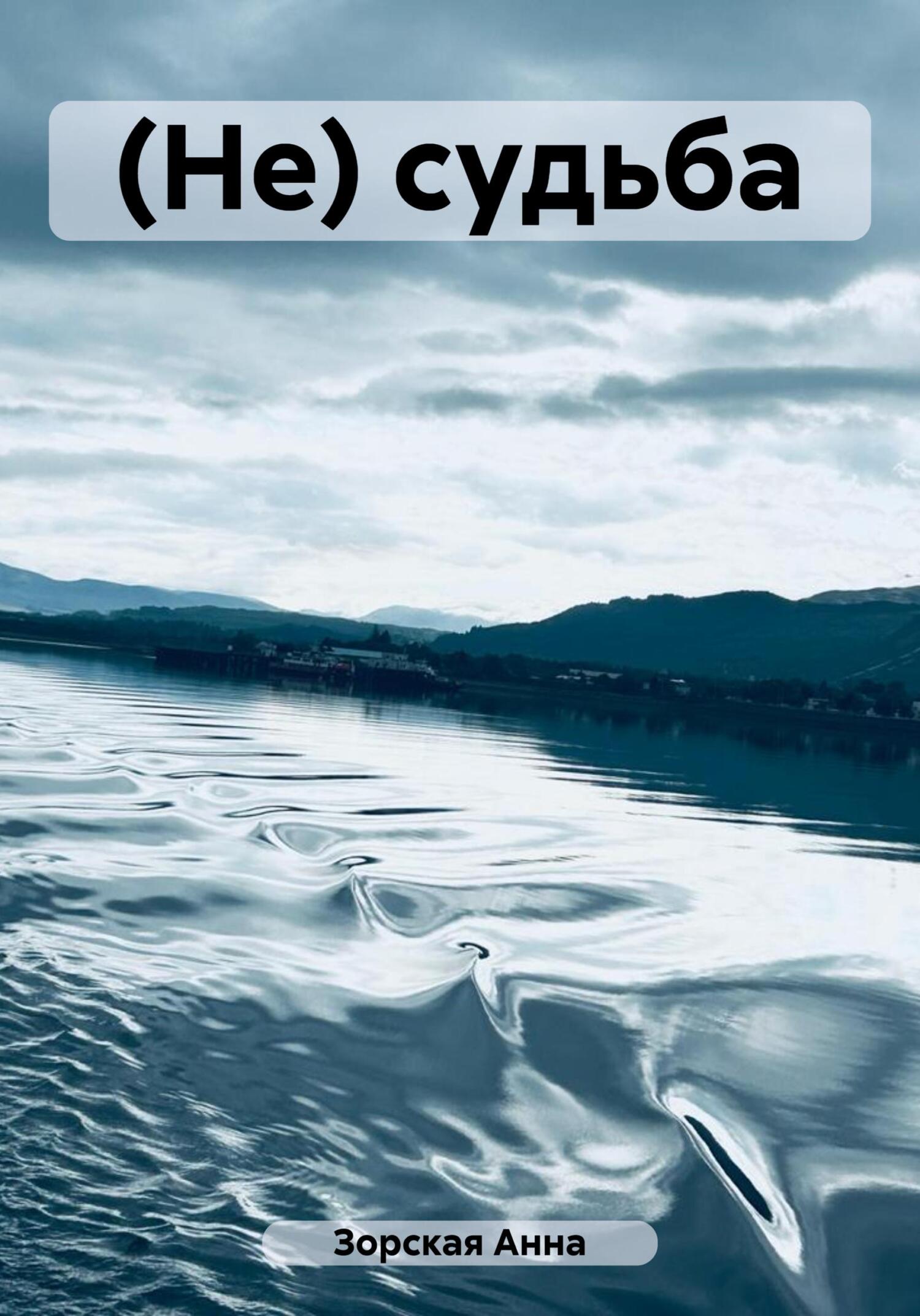и там куп белых цветов. Букет таких цветов, уже поникших, был зажат в правой руке ангела. Светловолосый ангел был одет в какую-то белую тунику, не только не скрывавшую, но даже подчеркивавшую два огромных белых крыла у него (на самом деле, конечно, у нее) за спиной; одно из крыльев было окровавлено. Ее светлые, полудетские черты были почти скрыты от зрителя: он (она) опустила глаза долу, так что мы видим ее только в профиль. Так же в профиль виден и первый из мальчиков: одетый в черную простую одежду, грубые сапоги и шляпу-котелок, он угрюмо смотрит вперед, словно прикидывая, долго ли еще осталось идти. Второй мальчик, облаченный в посконную рубаху, напротив, смотрит прямо на нас с туповатым, злым, но в то же время явно виноватым выражением лица. Картина эта и сейчас стоит у меня перед глазами, так что я могу продолжать описывать ее с любыми подробностями, но вот чего я не могу – это передать впечатление, которое она производила на зрителя. Я спустила Стейси на пол и придерживала ее за руку, пока мы молча стояли перед картиной, разглядывая ее, – но вдруг заметила, что и Викулин, и Мамарина как-то странно на меня смотрят.
– А вы бывали в Париже, Серафима Ильинична? – спросила у меня Мамарина своим особенным сладким голосом, всегда меня раздражающим.
– Случалось, – буркнула я, не понимая пока, в чем подвох.
– А с какими-нибудь художниками там знакомились?
– А что, собственно, навело вас на эту мысль?
Тут взял слово Викулин:
– Лизочка, верно, подразумевает известное и даже в некотором роде чрезвычайное сходство между вами и тем, кто нарисован на картине. Поскольку счесть это случайностью совершенно невозможно, остается предположить, что вы для нее позировали, хотя это, конечно, тоже за гранью всякой вероятности.
Никто, конечно, не помнит своей внешности до такой степени, чтобы сразу опознать ее в случайных чертах на картине, но, присмотревшись, я должна была признать, что Мамарина и Викулин правы и что явное родство между мной и ангелом на картине действительно присутствует. Конечно, я никогда не была знакома с этим художником, кем бы он ни был (да, кажется, и вообще ни с каким художником), а просто ему где-то удалось разыскать существо одной породы со мной и изобразить его на холсте, а уж как он понял, какова его, этого существа, природа – неясно: может быть, угадал тем особенным чувством, которое в свое время продемонстрировал приказчик из книжной лавки, а может быть, и заслужил каким-то образом его, ангела, доверие (хотя в последнее, признаться, мне верилось с трудом). Забавно, что я, прямо побаиваясь разоблачения, не допускала и на секунду, что Викулин и Мамарина сообразят, в чем тут дело.
– Ну не знаю… – протянула я, изображая раздумье. – Сама я точно никогда ни для каких картин не позировала, да и с художниками знакома не была. Может быть, конечно, он с фотографии рисовал, но зачем?
– Что же это за фотография такая в профиль? – насмешливо сказала Мамарина.
– А, например, из полицейского дела, – парировала я и посмотрела на нее прямо. Она как-то стушевалась: еще несколько лет назад для любого интеллигента намек на нелады с полицией заведомо подогревал интерес к собеседнику – сейчас, конечно, все смешалось.
– Но скорее всего, – продолжала я, – это просто случайность: у меня очень распространенный тип внешности.
Мамарину, кажется, это объяснение удовлетворило: для натуры, подобной ей, признать собственную неуникальность, особенно с точки зрения внешности, было равносильно поражению – как в какой-то японской борьбе проигравший особенным образом стучит по полу, чтобы быть отпущенным зажавшим его в клещи соперником. Но вот Викулин, кажется, не поверил мне, и еще несколько раз на протяжении последующего разговора я ловила на себе прищуренный взгляд его острых глазок. Рассказывал он по преимуществу о том, как пытался эту картину продать: сделав кодаком несколько фотографий, он предлагал ее в разные столичные галереи, которые, вопреки ожиданию, не только не закрылись, но, напротив, расцвели с чрезвычайной пышностью – оказалось, что время смуты на эту торговлю действует в высшей степени освежающе. Многие лица, как и наш собеседник, старались спешно избавиться от движимого имущества; другие, пребывавшие в плену собирательской страсти, напротив, увидели лучшие за все обозримое время шансы пополнить свои коллекции. Но при этом отчего-то никто из антикваров не хотел связываться с этой картиной – либо из-за ее действительно немаленьких размеров, либо из-за очень уж необыкновенного сюжета. По словам Викулина, если ему и предлагали хоть какие-нибудь суммы, то самые незначительные, причем только после продажи, что его никоим образом не устраивало.
Но для меня главным во всей этой истории было то, что она напомнила о пакетах, переданных мне стариком Монаховым. Не сказать, чтобы я связывала с ними особенные ожидания, но внутреннее чутье совершенно недвусмысленно подсказывало мне, что это не просто злая шутка или выверты его болезненной фантазии. В конце концов, выполнив хотя бы первую часть его инструкций, касающуюся петроградского магазина, я ничего не теряла. Поэтому на следующий день, строго-настрого наказав Мамариной никуда не отлучаться из наших меблирашек, я взяла нужный конверт и отправилась в лавку Клочкова. Сердце мое, как это говорится по-русски, было, конечно, не на месте: хотя Мамарина, кажется, и вернулась наконец в свой прежний (впрочем, невеликий) разум, я понимала, что в любую секунду она может, повинуясь внезапному порыву, забыть про меня, про дочь, про все прочее и уйти, например, с цыганским табором – оставалось только уповать на то, что этот стих найдет на нее не в мое отсутствие. Тащить их с собой мне не слишком хотелось: если я правильно догадывалась, что именно находится в пакете, предстоящее мне занятие требовало особенной деликатности.
В действительности все оказалось проще, чем представлялось. Магазин Клочкова я нашла без всякого труда – и даже изумилась, как много раз в прежние годы проходила мимо, не обращая внимания на вывеску. Его стеклянная дверь была заперта, но сквозь нее выглядывал какой-то маленький чернявый господин с усиками, отчасти похожий на кота: удостоверившись, что я пришла одна, он с хрустом отпер замок и, ни слова не спрашивая, угодливо пригласил войти. Там было на удивление многолюдно и сильно накурено, как, вероятно, бывает в клубах: сходство усугублялось тем, что все посетители были мужчинами, причем какого-то особенно затрапезного вида – вряд ли сюда допускались исключительно холостяки или при вступлении брался особенный зарок пореже переменять платье и избегать брадобреев, но впечатление было именно такое. На прилавке темного дерева лежала небольшая книжка в