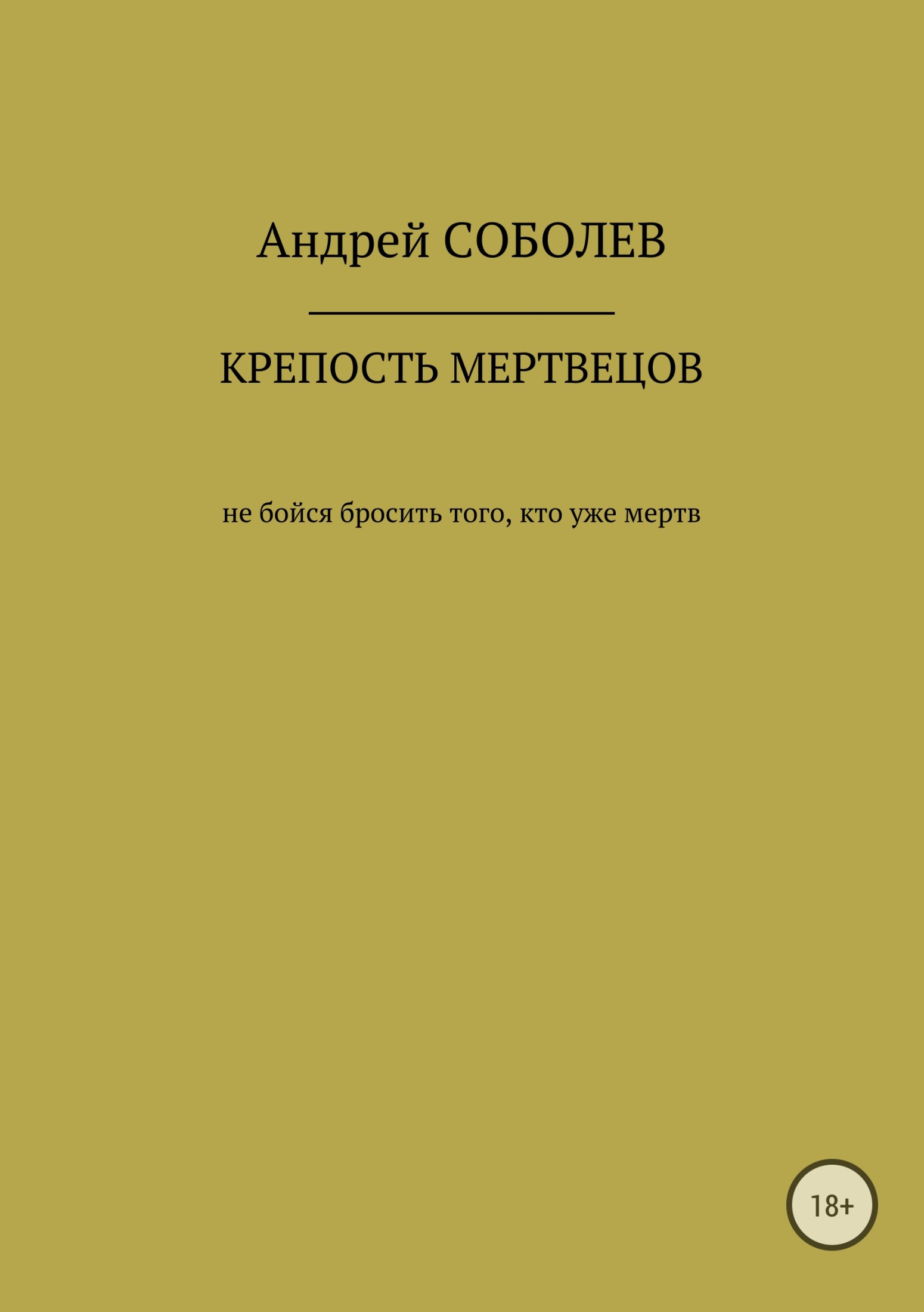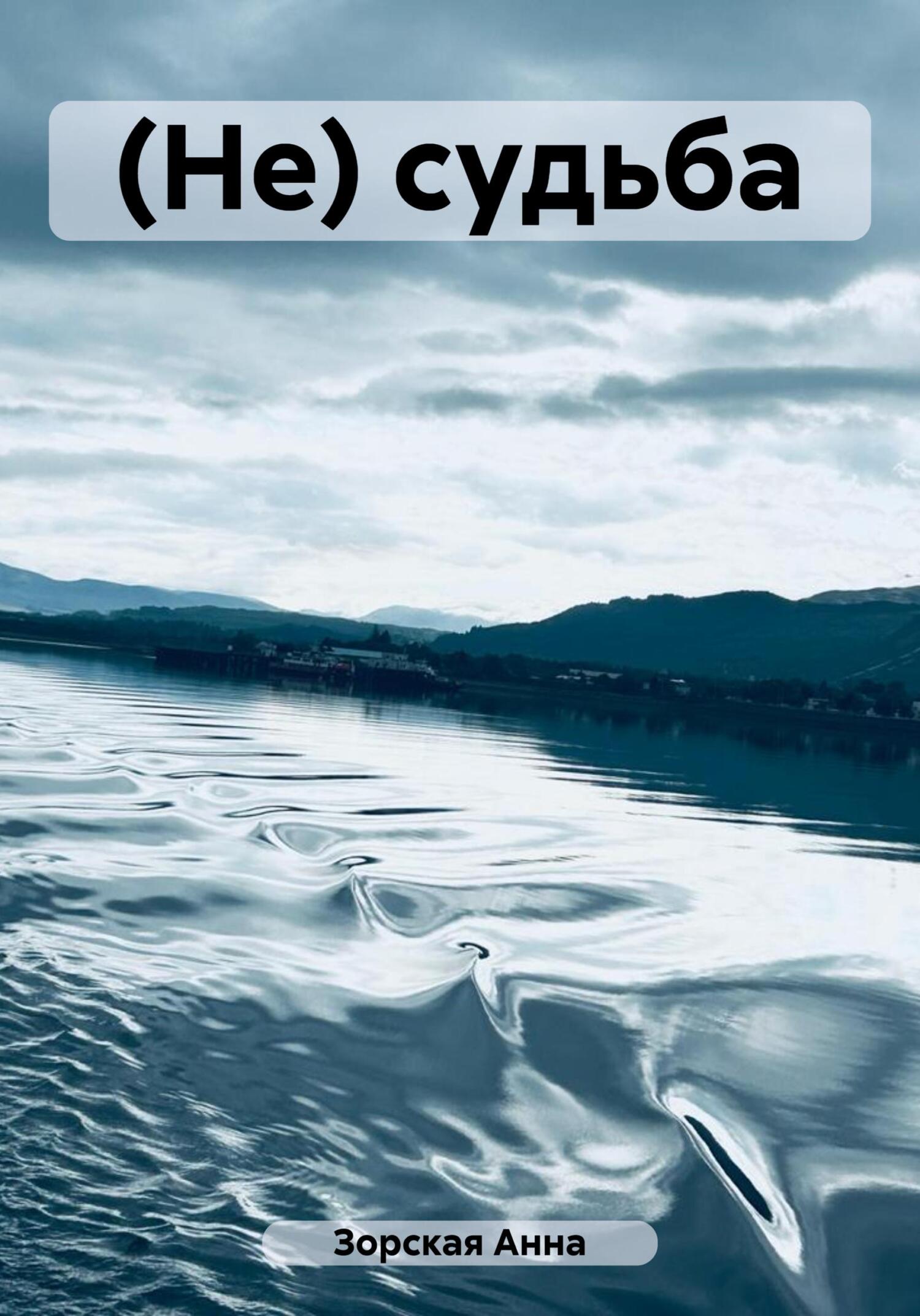уклад жизни поломался навсегда и безвозвратно – и казалось, что, немного повихляв, жизнь вдруг вскочит обратно в старые рельсы. Другая особенность момента состояла в том, что в первых месяцах революции было не так уж много пугающего: ее лозунги (особенно февральские) были настолько правильными, возглашавшие их предводители такими симпатичными, что большинство обывателей никак не могли предположить, какие клыки и когти мгновенно вырастут у всех этих славных господ в самом непродолжительном времени. Гавриил Степанович отнюдь не настолько был ими очарован, как большинство его современников, но даже он не осознавал вначале всей серьезности момента.
Твердо решив к весне, что посвященную гедонизму старость можно провести вместо Волги где-нибудь под Сен-Рафаэлем, он дал телеграмму самарскому маклеру, с которым несколько раз имел дело и через которого, собственно, и приобреталось несколькими годами ранее будущее Монрепо. И тут, на беду, маклер продемонстрировал какую-то излишнюю, необычную даже для своего опыта торопливость, немедленно ответив телеграммой, что на примете есть покупатель, очень интересующийся усадьбой и готовый мгновенно раскошелиться. Тут-то «проклятая психология» и поднялась в полный рост – все долго лелеемые мечты вдруг возникли снова, но только, словно в комической фильме, во всех прельстительных сценах вместо Гаврилы Степановича фигурировал вдруг совершенно другой герой остро отталкивающей наружности: он катался на лодочке по Волге, он вытаскивал судака на уду, он нюхал розовый куст и прогуливался в летнем костюме под ручку с красоткой, чьи черты казались одновременно чужими и знакомыми. Викулин затаился – не отвечал на телеграммы, которые слал встревоженный маклер, и вообще впал в какой-то род анабиоза, а когда очнулся – в Поволжье крестьяне, науськиваемые эсеровскими агитаторами, уже вовсю захватывали землю, барские дома горели один за другим, и продать ничего и никому было уже совершенно невозможно.
Тут бы ему собрать все, что было к этом моменту скоплено и собрано, и все-таки уехать хоть в Финляндию, но – как, покряхтывая, он говорил нам, – «все мы задним умом крепки». Все лето, пока отъезд в практическом смысле не представлял особенных трудностей, он возился с остававшимися делами: то договаривался с Публичной библиотекой о передаче ей семейного архива, потом, уже договорившись, начинал сам его пересматривать, чтобы не допустить обнародования каких-то древних интимных тайн, то обходил лавки антикваров с фотографией картины, некогда купленной им во Франции, – в общем, как будто специально тянул время, пока, наконец, выезд за границу не сделался практически невозможным.
А уже в октябре, после переворота, он и вовсе почти перестал выходить из дома. О событиях, которые напугали его до такой степени, что ввергли в неизлечимую агорафобию, он рассказывать не стал: кажется, даже и собирался, но как-то слова застряли в горле. Нам, побывавшим сперва в нижней квартире, это как раз было понятно, но по молчаливому уговору мы с Мамариной не стали говорить ему об этом. Кстати, Мамарина во все протяжение его рассказа делалась все живее: как будто опыт горя и безумия впускал его в наш круг, одновременно облегчая наше бремя. В результате, когда, спохватившись, он переспросил, что, собственно, нас к нему привело, Мамарина смогла как-то вывернуться, не добавляя ему печали воспоминаниями о былом могуществе. Довольно сухо она рассказала, что недавно овдовела и что собирается переехать в Петербург, чтобы обдумать свою дальнейшую жизнь. Про меня выразилась как-то мельком: «Серафима Ильинична была так любезна, что согласилась меня сопровождать», оставив у Викулина, может быть, впечатление, что я – что-то вроде компаньонки или экономки. Не могу сказать, что меня это задело – скорее наоборот, тем более что Викулин, сам того не сознавая, навел меня на одну мысль.
Видно было, что, разговаривая с нами, он немного отходит от долгого заточения: в его речи, жестах и мимике появлялось что-то более человеческое. Дело дошло даже до того, что он сходил в соседнюю комнату (принимал он нас в безликом и почти пустом кабинете) и принес для Стейси какой-то особенный колокольчик, к которому она сразу и потянулась своими ручками. Еще более оттаяв, он, извиняясь за свое скромное хозяйство, вскипятил спиртовку и приготовил для всех чаю. Знаком еще большего доверия было то, что он повел нас в гостиную смотреть на ту самую картину, которая, как оказалось, была одной из причин его фатального промедления с отъездом: психологически смирившись с тем, что все прочее его хозяйство будет безвозвратно разрушено и утрачено, а то и осквернено варварами, он хотел уберечь от этого лишь семейные бумаги и эту одну-единственную вещь.
Автора ее он если и назвал, то я не запомнила: купил он ее лет десять назад в Париже, где проводил как-то зиму после одной особенно удачной негоции с «Угольными копями Победенко» или чем-то в этом роде – устроил себе, как он выражался, «небольшой променад для поправки расшатанного здоровья». В те годы при русских туристах во Франции подвизалось немалое число гидов-лепорелло, которые не только получали условленную (очень небольшую по курсу тогдашнего рубля) плату с самих путешественников, но и весьма существенные комиссионные с владельцев магазинов, куда они заманивали своих легковерных компатриотов. Для русских, особенно одиноких состоятельных мужчин, были там свои классические маршруты со всяким щекотанием нерв: оперетки, театры-варьете, клубы – и прочие вечерние и ночные заведения, доходящие для иных ценителей до самого последнего разбора. Утонченности и шика (тоже, конечно, с поправкой на специфику аудитории) программе добавляло посещение нескольких артистических кабачков на Монмартре: заведенные там (с помощью лепорелло) знакомства иногда заканчивались в мастерских, где и совершалась иногда – не слишком часто – какая-нибудь сделка, к чрезвычайному удовольствию всех присутствовавших. Жили там художники чрезвычайно бедно: Викулин, как-то особенно прикашливая он нахлынувших воспоминаний, рассказывал, что в одной из посещенных им коммун живописцев у четверых или пятерых мужчин был один приличный сюртук на всех, надевавшийся ими попеременно для встречи с возможным покупателем или для выхода в город. Вот в одной из таких полунищих общих мастерских, служивших одновременно и галереями, он купил эту картину, занимавшую ныне половину стены в его гостиной. Уже в Петербурге он снес ее в мастерскую, где для нее сделали резную чудовищную золотую раму (сказалась наконец и череда густобородых предков заказчика), но даже несмотря на нее, впечатление выходило самое сильное.
На картине двое мальчиков, по виду лет двенадцати-пятнадцати, держали в руках носилки, на которых сидел раненый ангел. Фоном служил суровый северный пейзаж, похожий отчасти на нашу Вологду – серо-ржавый берег озера, каким он бывает поздней осенью и ранней весной: здесь была весна, поскольку видны были несколько растущих тут