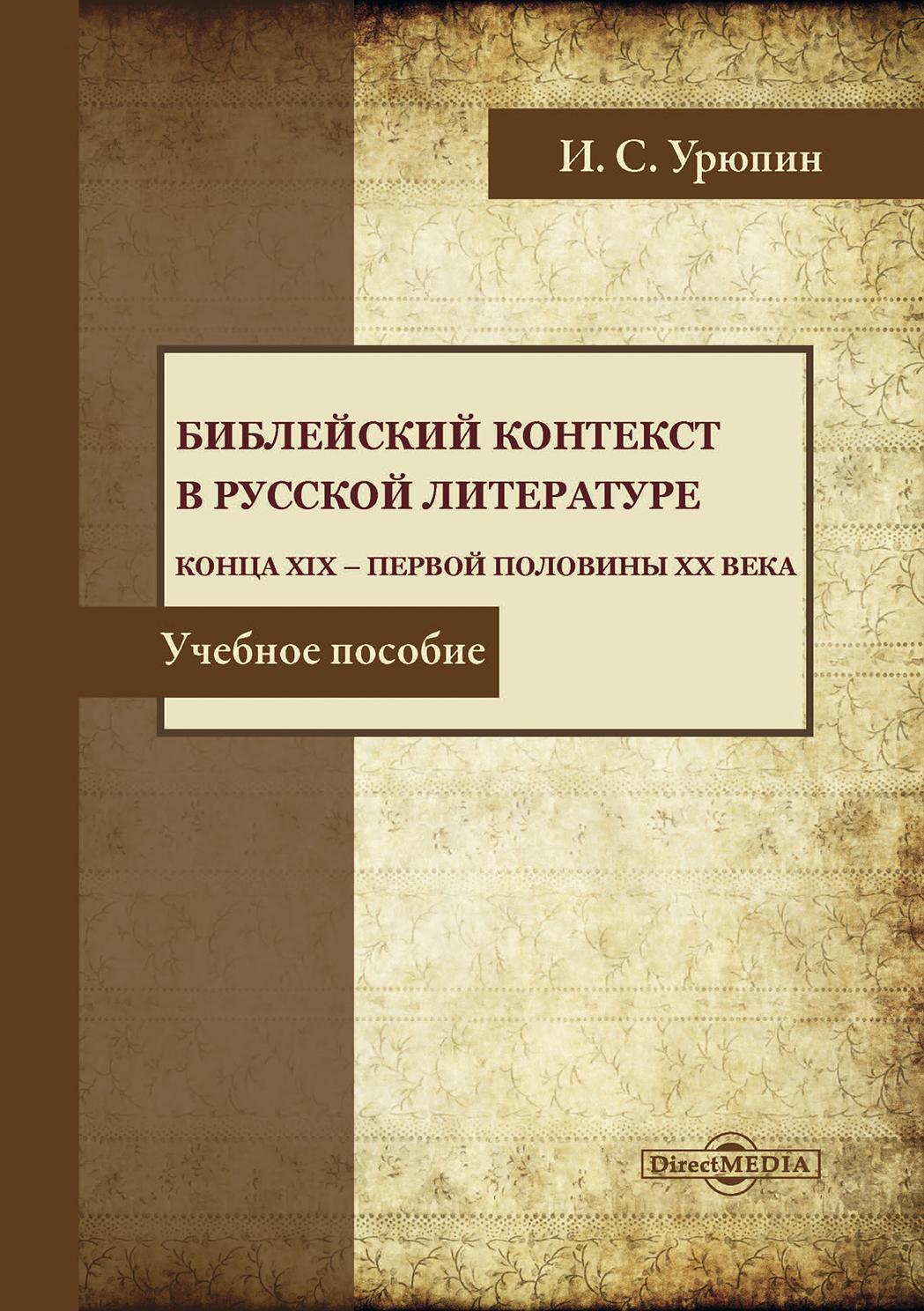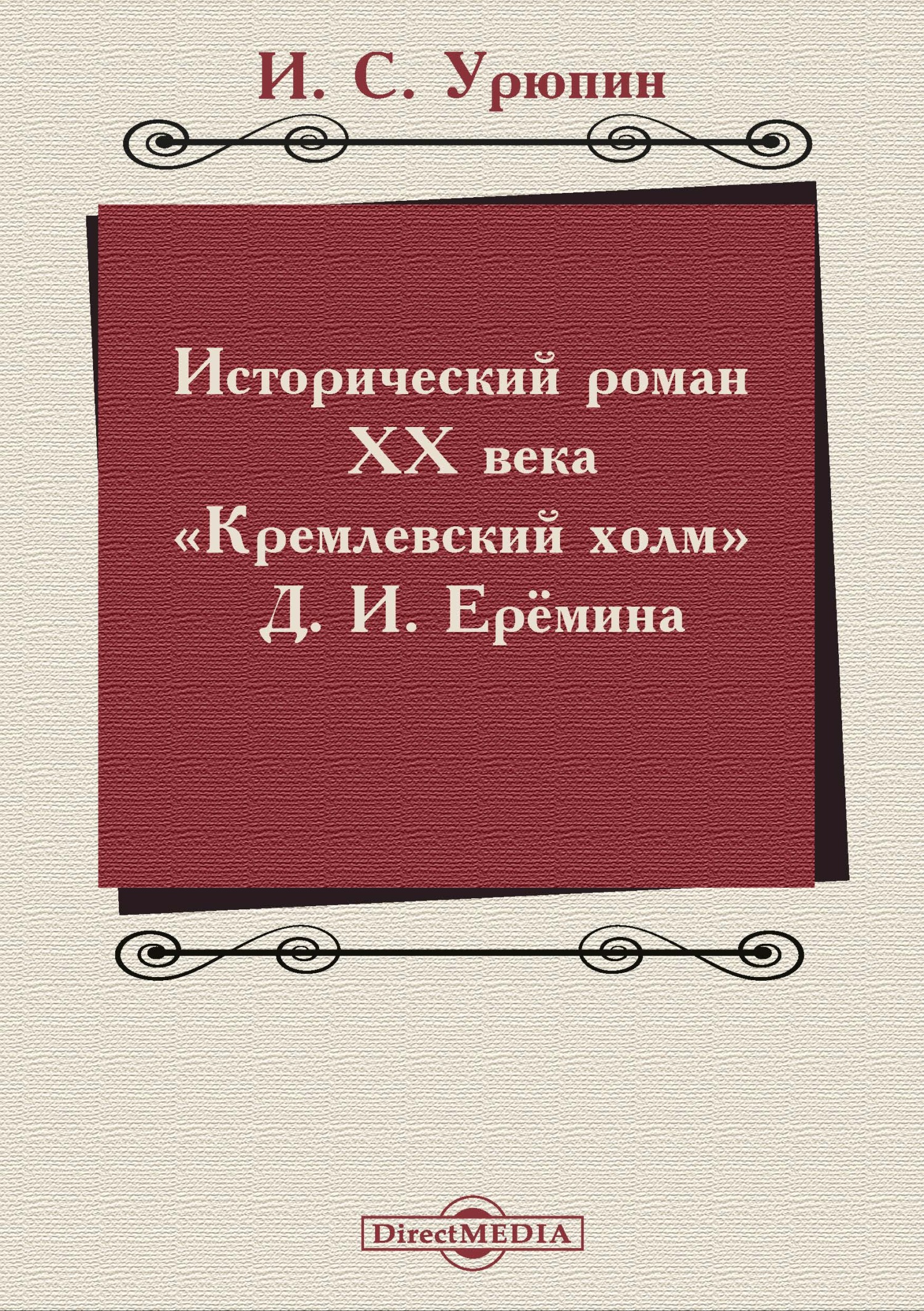картины светлого будущего, в котором все возможно. В последних строках он, напротив, говорит о том, что прощается не только со своей книгой, но и предвидит скорое прощание со «всей жизнью» (313). Словом, Зощенко отнесся к своей теме «неправильно», предполагая, что и в будущем человеку придется бороться со слабостями, сомнениями и печалями и грустить о недолговечности своего существования. Поэтому повесть и оказалась неприемлемой (подробно см. [Masing-Delic 1980]).
Если подход Зощенко к теме неизбежной смертности человека был «неправильным», был ли возможен «правильный вариант»? Правы ли были западные исследователи социалистического реализма сталинских времен, которые считали, что «культ оптимизма» [Vickery 1963] привел к тому, что тема смерти стала табу и что ей и проблемам «человеческого бытия во вселенной» в советской литературе уделяли мало внимания [Slonim 1977: 167]. Советские литературоведы оспаривали существование «табу» на эти темы и утверждали, что, наоборот, советская литература выделяла изображению страданий и смерти почетное место.
И те и другие были правы, так как говорили о разном отношении к этой теме. Для западных литературоведов смерть и знание о ее неизбежности были «неразрешимыми проблемами» персонажей, а для советских критиков — или материалом для «оптимистической трагедии» героя / героини (как в одноименной пьесе Вс. В. Вишневского 1933 года), или маловажным фактом в жизни, всецело отданной «перековке» страны. Трагизму смерти героя или героини противопоставлялась их готовность умереть за великую цель без малейшей примеси жалости к себе и какого-либо раскаяния в «грехах». Словом, не было «поражения» героя, нанесенного ему природой или судьбой, как в классической литературе прошлого. Было только торжество духа тех, кто знал, что их личная смерть бессильна помешать продвижению партии, страны и народа к «цели», которая была и их главной целью в жизни. Смерть не может быть трагической, если человек не придает никакого значения своей смертности, умиранию и кончине, как Павел Корчагин в романе Н. А. Островского «Как закалялась сталь» (1934).
В этом частично автобиографическом повествовании от третьего лица счастливая смерть героя — результат осознания, что все, даже мельчайшие частицы жизненной энергии его тела и духа даже в длительный период болезни и умирания были пожертвованы на пользу дела коммунистического будущего. В нем «оптимистическая трагедия» героя сосуществует с «утилитарным» подходом; даже будучи смертельно болен и прикован к постели, герой не тратит ни секунды времени на раздумья о своей неизбежной кончине, так как, не придавая ей какого-либо значения, он сосредоточен на том, чтобы до последней капли отдать делу революции свои жизненные «флюиды». Исчерпав дотла свою полезность партии, дописав книгу о своих бескорыстных подвигах, не в состоянии дать партии больше ничего, кроме своей смерти, Павел Корчагин венчает свое существование «духовным торжеством» советского человека, который никогда не спрашивал, ждет ли его лично награда за подвиги и мучения [Mattewson 1958: 333]. Полная исчерпанность сил дает ему право наконец отдать иссохшую скорлупу своего измученного тела уничтожению в осознании, что он до конца был полезен делу революции. Таким образом, в ортодоксально соцреалистической литературе сталинского периода «проблемы» смерти не существовало. В данный момент движения вперед к будущему надо было «прекратить все праздное теоретизирование» [Joravsky 1978: 108] о «вечных» и «несущественных» (так как уже решенных) вопросах бытия и заниматься вместо этого практикой всеобъемлющей перестройки страны. Корчагин стал образом героя, не придававшего никакого значения своей смерти, героя, который умер, зная, что он был «полезен до конца», не спрашивая и даже не думая о том, найдут ли когда-нибудь в вечной материи «следы» его полезности для дела.
Самозабвенность Корчагина, его превращение своей личности в оружие и орудие социально-экономической и заявленной первым пятилетним планом культурной революции, его участие в «опережении» настоящего для скорейшего приближения будущего говорили читателям-современникам о том, что настоящий герой способен с помощью одной силы воли пренебречь всеми недугами. Повесть «Как закалялась сталь» служила «живой водой» для тех, кто страдал от распространенной в тот период «советской изношенности» [Joravsky 1978:117] — крайней духовной и физической усталости перегруженного работой советского деятеля революции. Биография Островского была антидотом раздумьям о том, зачем губить свое здоровье и жертвовать частной жизнью ради великих, но все же далеких целей и не слишком ли дорого стоят нравственные травмы, полученные в жестоких боях с классовыми врагами и вредителями. Такие настроения посещают и страдающих синдромом «изношенности» героев романа Леонова «Дорога на Океан». Конечно, «изношенным» больше, чем инъекции бодрости, требовалось медицинское лечение, в частности переливания крови (Богданов делал их, например, Красину), но книги наподобие «Как закалялась сталь» говорили и о том, что «изношенность» можно преодолеть не только лекарствами, но и новыми подвигами. Подвиги перековывают бренную плоть в железную волю духа, которая не изнашивается и, даже когда тело противится приказам духа, находит все новые пути к преодолению его сопротивления. В отличие от автобиографической повести Зощенко с ее «трусливой» сосредоточенностью рассказчика на себе, повесть-автобиография Островского говорит об истинной перековке человека в Человека. Словом, к середине XX века найдены главные подходы к «счастливой смерти»: теургия (как в эротической утопии андрогинности), программы «общего дела» (разновидности федоровизма) и умерщвление индивидуализма (преображение человека в стальное орудие борьбы за будущее).
Поиски бессмертия в конце XX — начале XXI века
Остается задать еще один вопрос: продолжаются ли поиски земного бессмертия в России и в нашем XXI веке? Ведь прошло много времени не только с того момента, как Христос покинул землю (и так пока и не вернулся на нее), но и с тех пор, как начались серьезные философские и научные поиски физического бессмертия, которые до сих пор не дали желанных результатов. Может быть, и верующие в общее дело перестали трудиться и надеяться? С восстановлением православия в России, конечно, большая часть населения вернулась к традиционной вере в бессмертие души и воскресение праведников после Страшного суда; несомненно, остались и те, кто придерживается «заветов атеизма». Эти две группы, естественно, не преследуют цели создать бессмертие на земле, но как обстоит дело с искателями бессмертия в постсоветские времена — исчезли ли они? На этот вопрос можно найти интересные ответы в информативной книге А. Бернштейн «Будущее бессмертия» (The Future of Immortality) [Bernstein 2019].
Согласно Бернштейн, искатели бессмертия в России XXI века многочисленны и «русская футуристическая сцена — одна из самых активных в современных сообществах имморталистов» (2019: 5). Причем «прогрессоры» современности во многом продолжают, но, конечно, и обновляют «утопические дискурсы и надежды» дореволюционного и раннего советского периодов» [Bernstein 2019: 29]. Вопреки предположениям об «исчезновении будущего» в постсоциалистической России, отмена