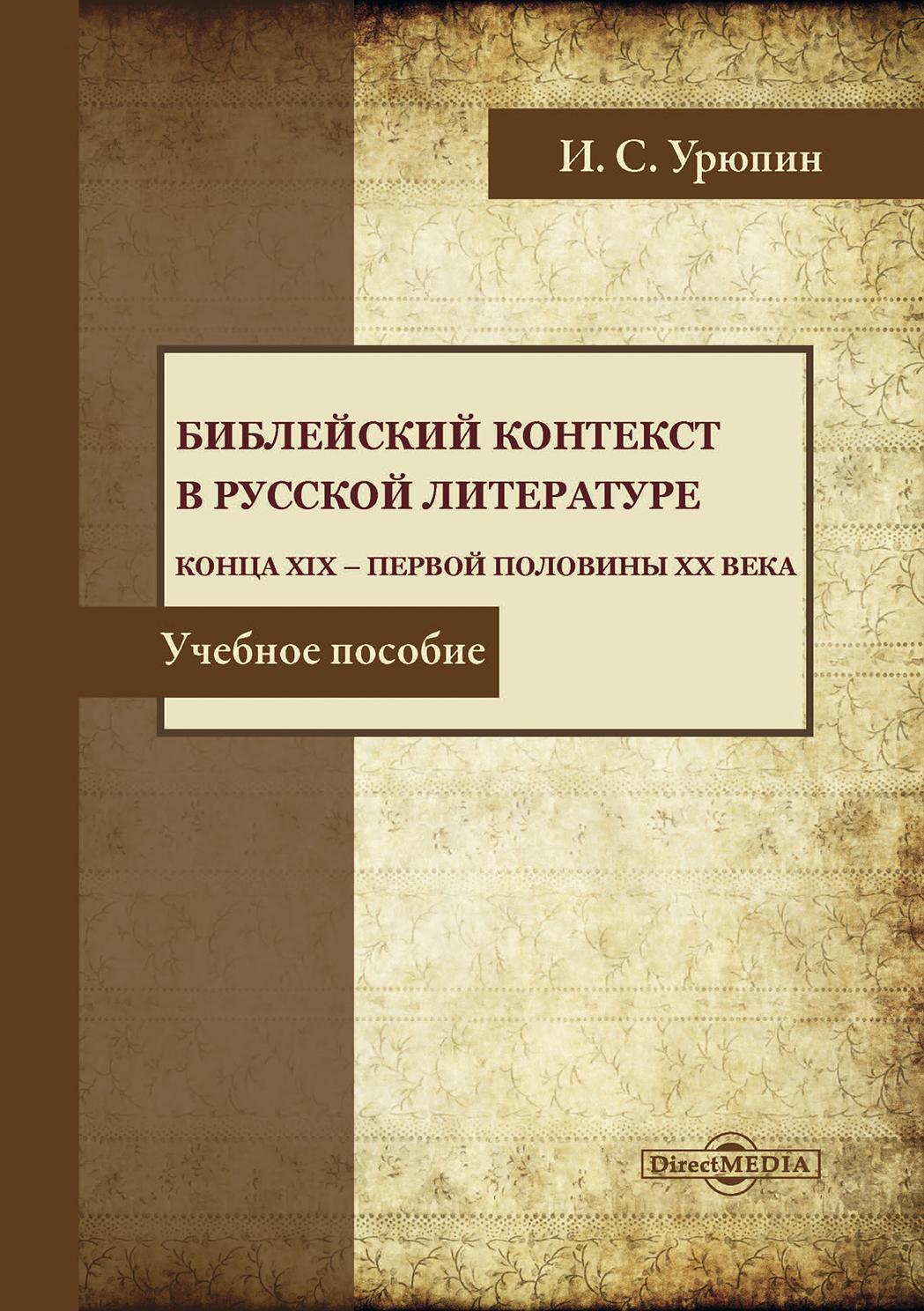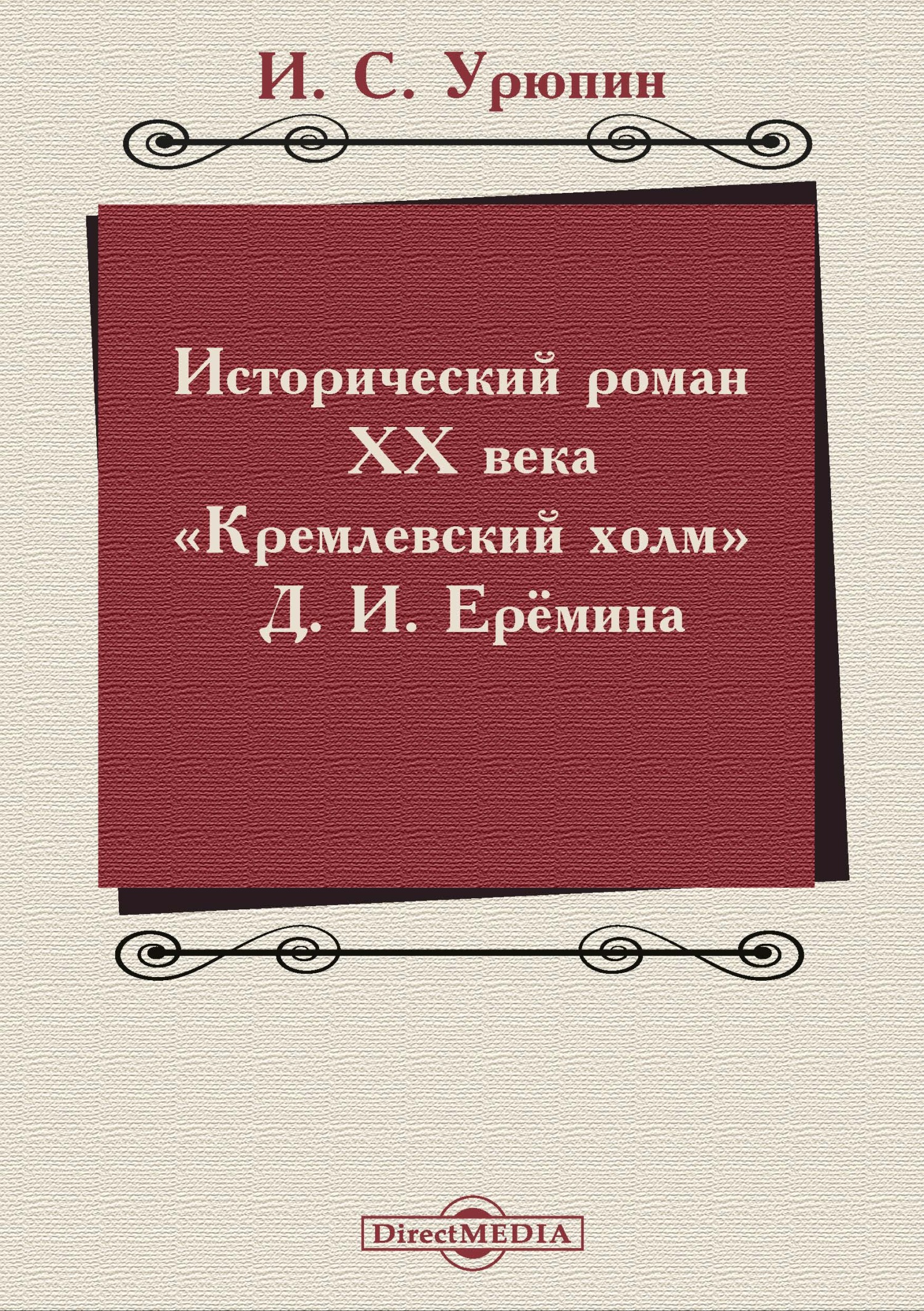будущего сочетания бездеятельного ума с вечно молодым телом (см. 366) стала для него пыткой, еще более невыносимой, чем самосожжение.
А. Л. Семенова делает интересное наблюдение, что у Фриде, никогда никого не любившего, источник отвращения к жизни кроется именно в его неспособности любить. Ведь любовь скорее, чем интеллект, имеет способность поддерживать неугасающий интерес к другому человеку и через личную любовь к кому-то одному, и через любовь ко всему человечеству. В. С. Соловьев считал, что именно любовь способна дать вечно вдохновляющий дар сосуществования двух любящих, как и всего человечества, без того чтобы воцарился «бездонной скуки ад» (Блок). Не исключено, что рассказ Богданова критикует именно «сверхрациональность» героя (о чем свидетельствуют и его сравнительно малоудачные занятия искусствами), а не бессмертие само по себе; может быть, здесь присутствует и критика необоснованного самомнения Фриде. Прав ли он, что понимает все сущее и что люди вполне предсказуемы, или это самообман человека, который не умеет смотреть глубже поверхности явлений? Или бессмертные люди в самом деле стали скучными, потому что в их бесконфликтном и комфортабельном быту жизнь стала духовным и душевным прозябанием, перестав быть жизнью? Они скучают, но не знают, что скучают, потому что уже давно не испытывают иного состояния, кроме скуки, и принимают его как должное. Как бы то ни было, «Праздник бессмертия» выражает сомнения в том, что духовность человека может избежать энтропии в мире бесконечного времени. Возможно и то, что Фриде, разрешив последнюю загадку мироздания, пришел к выводу, что космос — не более чем «ларчик», который сравнительно легко открывается и не содержит так уж много интересного, каких бы огромных размеров он ни был. Возможно, другие миры космоса только повторяют или разделяют порядок и быт жителей Земли: в беседе с только что вернувшимся с Марса родственником Фриде верно угадал, какими проектами на своей планете занимается его старый марсианский знакомый. Если бы у него были знакомые на Юпитере, он, наверное, также угадал бы, как они проводят (не)время[216]. Очень возможно, что озарения Фриде разделяет и его создатель Богданов, который никогда не стремился к бессмертности человека, а только к его долголетию — ведь марсиане из романа «Красная звезда» после нескольких сотен лет жизни обычно по собственной воле уходят из нее. Как ни интерпретировать многозначный рассказ Богданова, он явно выпадает из рамок «прогрессивного» мировосприятия, которое предполагает, что духовному и физическому развитию Человека нет конца и что он не только способен на вечный энтузиазм, но и полностью осознает, что вечный и беспрерывный восторг — естественное состояние человека.
Можно ли было говорить о смертности человека в литературе расцвета социалистического реализма?
В первых главах данной книги уже говорилось, что соцреалистические литературные произведения нередко намекали на то, что всемогущая советская наука «изобретет» бессмертие и что смерть — «излечимая болезнь». Но не все были так уж убеждены, что «всемогущий коллектив» и всемогущая советская наука разрешат проблему смертности человека, и, в отличие от «не желающих бессмертия», рассматривали конец своей жизни как печальную неизбежность. Так, герой романа Л. М. Леонова «Дорога на Океан» (1935) говорит о том, что смерть останется неустранимым препятствием на пути к полному коммунистическому счастью и поэтому трагизм никогда не исчезнет из человеческой жизни, даже в стране Советов. Эта мысль вызвала отрицательную реакцию критиков, несмотря на то что другие аспекты жизни в городе социалистического будущего были представлены в положительном ключе (см. [Mathewson 1958: 301–308]). Для полноты обзора отношений к смерти и бессмертию в данной работе я хотела бы добавить несколько строк о том, как относилась критика сталинского периода к тематике принятия смерти как неизбежного факта существования. Сопоставив для иллюстрации этого вопроса две книги, авторы которых не писали о победе над смертью и даже не намекали на такую возможность, а принимали ее как неизбежность, можно показать, что в одной из них отношение к этому «факту» было вполне и даже весьма «приемлемым», а в другой совершенно «неприемлемым». Вторая книга была запрещена советской цензурой, первая была с восторгом принята критикой. Запрещенной книгой была повесть М. М. Зощенко «Перед восходом солнца». С нее я и начну.
Если роман Леонова был принят «прохладно» [Mathewson 1958: 305], то повесть «Перед восходом солнца» Зощенко вызвала целую бурю негодования (первые главы повести были напечатаны в журнале «Октябрь» в 1943 году; остальные появились в «Звезде» только в 1972-м). Печатание исповедальной автобиографии Зощенко, написанной во время Второй мировой войны, было прекращено, и та ее часть, которая уже появилась, быстро исчезла из книжных магазинов. Одной из причин неприятия повести, несомненно, была трактовка в ней смерти (другими были «натурализм» и «фрейдизм»). Автор представлял умирание и смерть как ужасающее зрелище, а знание о неизбежности смерти — как тень, неразлучно провожающую человека через всю жизнь, охлаждая его радости и омрачая его надежды. О страхе смерти можно на время забыть, но ненадолго: смерть постоянно напоминает о себе в том или ином символическом облике (часто это вода, в которой можно утонуть). Хотя, по сути, повесть является отчетом об успешной «перековке» самого себя, так как рассказчик в ней показывает, как он одолел страх смерти с помощью науки — учение Павлова о создании условных рефлексов очень помогло ему развить разумные реакции на свой страх, — она не была принята как положительное свидетельство о «втором рождении» человека. Очевидно, победа над «животным, не всегда осознанным страхом» [Зощенко 1973: 287, далее — указание страниц в скобках] дается рассказчику слишком большим трудом и его ужас перед «черной водой» смерти (181–193) слишком реален для поэтики соцреализма. Яростная реакция на повесть «Перед восходом солнца» показывает, что, несмотря на «счастливый конец», она дает слишком «сложное» изображение страха смерти и выражает слишком большое отчаяние перед ее сущностью[217].
Еще одной проблематичной чертой повести Зощенко, вероятно, было то, что в ней отсутствовал даже намек на мысль, которая по определению должна была быть мировоззренческой аксиомой по-настоящему советского человека и литератора, а именно что когда-нибудь с помощью всемогущей советской науки будут найдены «следы» умерших и, если эти люди боролись за коммунизм, они будут «восстановлены». «Там, в коммунизме, не будет богатых и бедных, не будет денег, войн, тюрем, границ, не будет болезней, и может быть (то есть «очень вероятно». — А. М.-Д.), даже смерти» [Терц 1988:8], — иронически писал А. Терц в очерке «Что такое социалистический реализм?». Если верить автору повести «Перед восходом солнца», он победил свои страхи, но при этом забыл, что следовало нарисовать