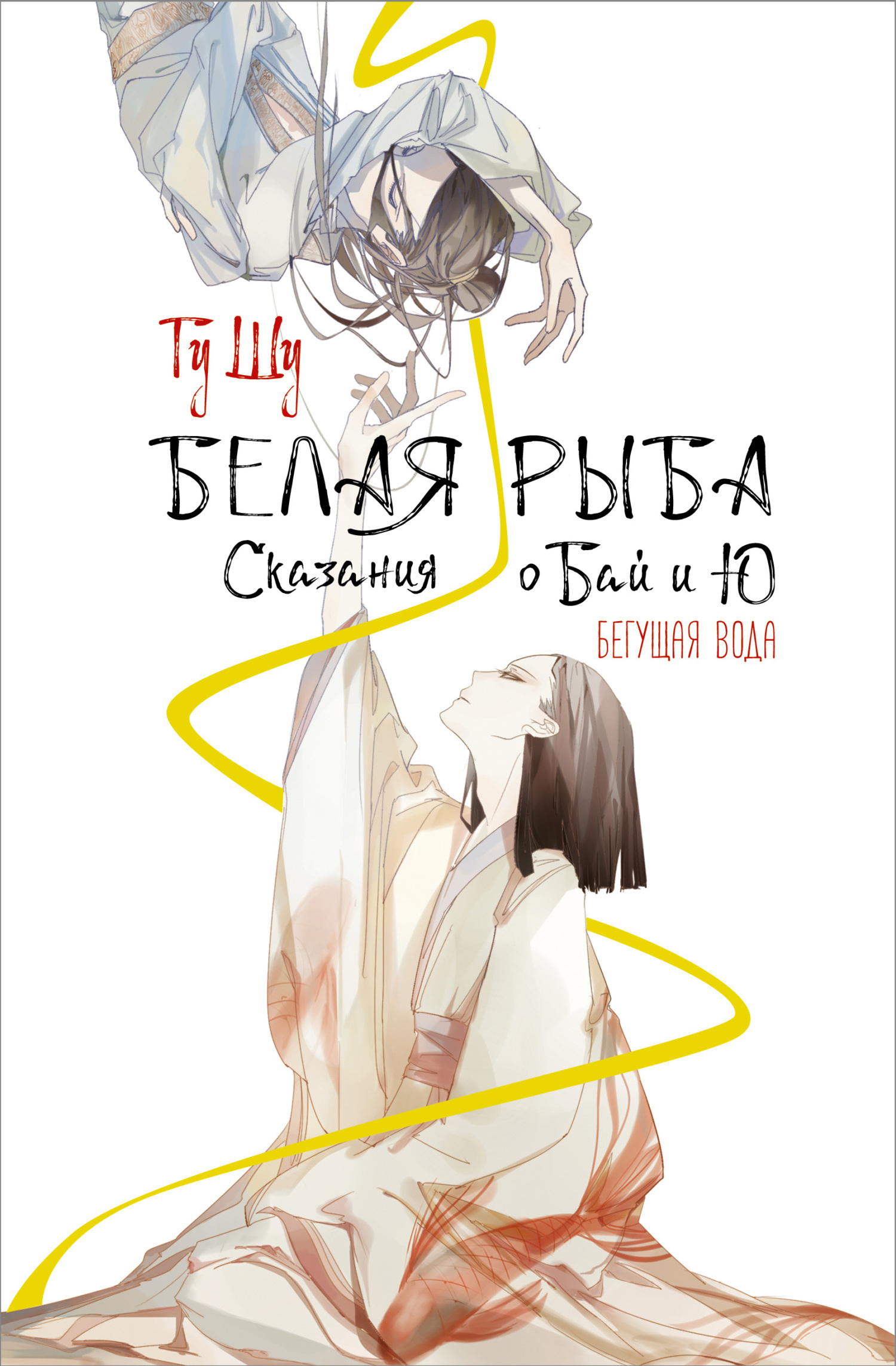Тихомиру с дочерью выйти велят. Волк до хлева дополз, глядит из-за угла — добро, пса во дворе нет, шума никто не поднимет.
Вышла Марьяша. Им-то одну укладку взять дозволили, так она, видно, всё на себя вздела, что смогла — на тулупе ещё тулуп, из-под платка ещё три виднеются, и на плечи платок набросила. А Тихомир из вредности в одной рубахе вышел, в портах да босой. Кричит:
— Что, Борис, явился ль меня проводить? Гляди, голый да босый иду! За дружбу, за службу верную токмо это и заслужил…
Этот из дома, видно, тоже вынес, что смог: всю медовуху да вино. Едва идёт. Марьяше самой нелегко, уж взопрела, да ещё укладку волочит. Люди-то глядят, посмеиваясь, а помочь никто не спешит.
— Ишь, капуста! — приговаривают. — Небось и копеек за щёки насовала! Нам-то хоть что осталось?
Да тут же, не дожидаясь, покуда хозяева отбудут, пошли искать, что в доме есть, да с шутками-прибаутками выносить, что приглянется: и сундуки, и зеркала, и тканые дорожки, даже и кадушки с солёными огурцами. Уж и соседи за воротами собрались, каждый себе кусок урвать хочет, а царь Борис не явился. Может, он и велел своим людям за порядком следить, да никто не стал.
Какая-то баба с Марьяши уж платок потянула, ничего не стыдясь, как бы и укладку не отняли.
Ощетинился волк, зарычал, а на помощь явиться не может — уж полон двор людей, а за двором вся улица. И коровёнок хотят себе взять, и кур, и гусей.
— Забирай платок, — слышно, кричит Марьяша, — а с ним и всё моё горе возьми! Слово моё крепко!
Испугалась глупая баба. Платок уж было сорвала, да Марьяше его обратно в руки и сунула, отпрянула с визгом.
Тут о мече кто-то вспомнил. Добрый был у Тихомира меч, да неплохо бы тут же, на его глазах, этот меч себе и взять. Ну, кто первым сыщет? Волка тут и прошибло: чего ж он зевает, ведь сам за мечом и пришёл!
— Да я его в реку кинул, там ищите! — закричал Тихомир.
Разбежались люди по дому, котлами гремят, горшки бьют, лавки переворачивают, а волк наконец увидал в углу сада старую яблоню. Сама широка да раскидиста, тело у ней перевязано, в нём от годов трещина глубокая. Вот у корней земля потревожена. Волк её лапами разбросал, да меч и сыскал, вытянул за перевязь, да в лаз! Пусть ищут, хоть обыщутся.
Тут снежок пошёл.
Время раннее, а в городе шум: колдун дворы обходит, нечисть гонит, чтобы добрых людей губить и пугать не смела. Да ещё подменыша везут. Румяные девки спешат-торопятся к царскому терему.
— Страсть охота хоть одним глазком поглядеть! — говорит одна. — Каков он, подменыш-то?
— В колымаге, сказывают, поедет, так ничего и не разглядим. Что ж, может, он в оконце рыло покажет!
Смеются, заливаются. Мимо волка прошли, тот в канаве лежит, не дышит. Стихло всё, он перевязь зубами хвать, да и дёру.
Бежал он полями, лесами, да вдоль ручьёв, да оврагами. Воды студёной глотнёт, глаза ненадолго сомкнёт, и дальше в путь. Думал, может, успеет ещё нагнать Умилу с Божком, да как ни выходит к дороге, их не видно. Поглядит-поглядит в пустынную даль, да и нырнёт под лесную сень, а там опять через поле перемахнёт. Снег его след заметает.
Прежде всего к двум дубам сунулся, а там уж его ждут. Под навесом горит костерок, Божко пирог уписывает, рядом Умила бродит. Увидала волка, так к нему и кинулась.
Он меч в снег выронил, тяжело дышит. Меч-то не лёгок, поди его снеси в зубах! Да ещё в лапах путается, за кустарник цепляется.
— А мы уж всё сделали, — говорит Умила. — Хворостом бочку накрыли, связали его, да и ехали по дорогам…
— Она из чужого хлева верёвки украла, — вставил Божко.
Умила на него сердито поглядела. Щёки от морозца и так раскраснелись, а тут и вовсе заалели.
— Где бы их ещё взять? — говорит. — Пироги тоже не даром достались, вот мошна и опустела! Небось голодным ехать не захотел.
— Хороши в дорожке пироги с горошком, — согласился Божко и опять рот набил, умолк.
Умила на меч поглядела и спрашивает волка:
— Не слыхал ли ты хоть что о моём батюшке, не видал ли его? У Марьяши-то хотя и беда, да прожить можно, подсобим. А батюшка мой, я боюсь, послужил колдуну, да боле не надобен…
Губы у неё покривились, да крепится, твёрдо говорит, а глаза сухие, злые:
— Ведь и не узнаю, где его косточки лежат. Сама этот меч возьму да голову проклятому колдуну срублю! Вызнаю, где его смерть запрятана…
Волк прильнул к её ногам, она его обняла, примолкла. Он ей лапу на плечо положил, тоже обнял.
— Мы ввечеру приехали, — говорит Божко, — да сразу в Перловку. Страшновато было! На поле будто огни вспыхнут да погаснут. Умила говорит: это, мол, снег подтаял да лунный свет поблёскивает. А телегой от дороги и не проехать, всё развезло, я водяниц к озеру на руках носил. Умила мне иглу в рубаху воткнула, шибко им то не по нраву пришлось, и озеро им не полюбилось. Осердились, на дно ушли.
Он перевёл дыхание, смахнул со рта крошки пирога и продолжил, понизив голос:
— Мы на кладбище, а там как завоет что! Седой ворон с человечьими глазами с камня снялся, над нами пролетел, мы так и присели! Яйцо оставили на первом камне, да бежать — а ведь ещё перо! Мы уж храбримся, храбримся, к лесу идём, а в поле кто-то тёмный бродит, обернулся, глаза горят… Умила перо достала, от него свет разлился, тот, тёмный, будто сгинул. Дошли до опушки, я землю наспех разрыл, перо упрятали да бежать! Ох, как мы бежали! Сосны тут затрещат, как лучинки…
Божко отдышался, дико водя глазами, будто вот только это видал и едва спасся, да опять говорит:
— После думаем: от телеги-то след останется — тут, как нарочно, снежок пошёл, выручил нас, все следы упрятал. Сладили мы навес, и добро, что огня не развели, тут по дороге много людей проехало, а вскорости кто-то отбыл. Должно быть, колдун уж докончил дело и не вернётся, да мы не ходили глядеть, тебя ждали. Вот думаем, спросить бы у тех. Ежели при колдуне дядька Добряк был, так они небось его видали. Ну, идём, что ли?
Умила поднялась решительно.
— Идём, — говорит. — И о батюшке моём спросим, и поглядим, что появилось, чего прежде не было.
То, чего не было,