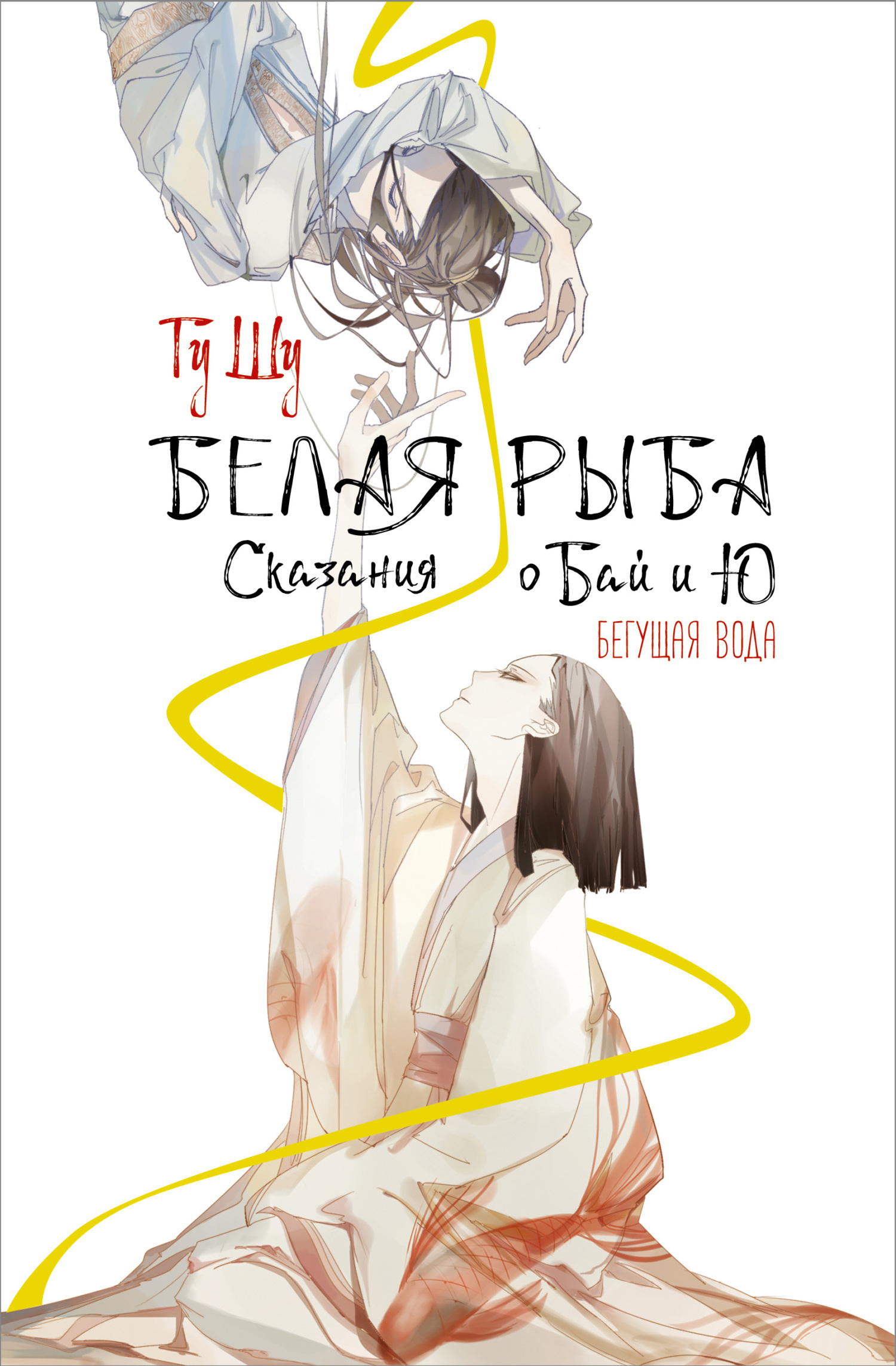голову под крыло сунула, хвост свесила, от неё свет идёт.
— Проснись, пробудись! — позвала её Умила. — Тот, кто тебе волю дал, за наградою явился.
Вытащила птица голову из-под крыла, поглядела сонным тёмным глазом и говорит человеческим голосом:
— Какой же он просит награды, злата да каменьев? Серебра, богатых нарядов?
Голос у птицы нежный, юный. Запоёт — небось зачарует песней, слушать бы её да слушать. Да отчего ж она прежде не говорила, как ещё у царя жила? Вот уж верно, был бы тяжкий грех загубить такую!
Волк головой мотает. Не надобны ему наряды и серебро, не надобно злато.
— За реку Смородину многие богатыри ушли, не воротились, — продолжает птица. — Ждут, не дождутся их верные кони, тоскуют без крепкой руки мечи булатные, ржавеют шеломы. Хочешь коня богатырского в золочёной сбруе? Хочешь ли меч, коим врага одолеешь лютого?
— Меч ни к чему, — говорит Умила, — и на что ему, волку, конь? За иным пришли: дай нам самое длинное перо из своего хвоста.
Умолкла птица, голову склоняет так да эдак, будто дивится.
— А перо вам на что? — спрашивает. — Кто подучил?
Молчит Умила, не знает, что ответить, и волк молчит. Глядела-глядела на них птица, да и говорит:
— Перо у меня выпадало и ещё не отросло. На день останетесь, вдвое длиннее станет, ещё день подождёте — втрое. Нынче оно совсем короткое.
Переглянулись Завид с Умилою. Ждать им нельзя, и ничего, кроме пера, брать не велено.
— Какое ни есть, давай, — говорит Умила.
Птица шею изогнула, перо выдернула да в клюве подала. Умила его взяла — с ладонь, не больше. Поглядела, за пазухой спрятала и поклонилась.
— Благодарствуем, — говорит.
Птица уж не ответила, голову под крыло спрятала, уснула.
Вернулись они в сторожку, взяла Умила яйцо со стола, пока хоть чуть видно было, и затворила дверь.
Вышли, и нет реки, вновь перед ними знакомый лес. Умила яйцо в руке покачивает, говорит:
— Помни, оглядываться нельзя. Не позабудь!
Кивает волк. Помнит.
Она ловко яйцо перебросила с правой руки на левую, и сперва будто ничего, а потом как затрещит, точно изба рушится! Вскрикнула Умила, сама едва не обернулась. Волк ей ладонь прикусил легонько, повёл прочь. Скоро она опомнилась, села ему на спину, крепко шею обхватила, и он побежал. Стрелою мчится, её уносит, она тяжело дышит и всё за него цепляется, а за ними что-то ворочается да стонет, что-то будто вдогон пустилось.
— Ох, что же это! — бормочет Умила. — К добру или к худу? Что же мы, любый мой, сделали?
Волк того и сам не ведает. Не поспешили ли? Им помощь посулили, они и поверили, а что с того будет, и не вызнали.
Долго ли, коротко ли, добрались до выворотня при дороге, а там уж телега стоит, лошадёнка ушами прядает, копытами переступает. Добряка лошадёнка, смирная, крепкая, да нынче ей не по себе. Рядом Божко во все стороны вертится, озирается. Волка завидел, кричит:
— Я уж думал, не воротитесь! Отчего так долго-то?
Под выворотнем так и лежала бочка с водой, которую везли на царёв двор, да по пути подменили. Насилу они её выкатили, насилу донце сняли. Божко всё расспрашивает, какова птица, да правда ли, что там, по берегам реки Смородины, остались богатырские шатры со всем добром, кое уж не надобно хозяевам, перешедшим по Калинову мосту на тот свет.
— Вы бы нахватали поболе, да в избу! — всё повторял он, взмахивая рукой. — Меч увидали — хвать его! Золото — хвать! Коня богатырского…
— Коня-то как заведёшь в избу? — насмешливо сказала Умила. — Особливо ежели он богатырский.
— Ну, хоть седло с коня золочёное да узду! — не сдавался Божко. — Эх, вы… Меня там не было.
— И добро, что не было. Через то и беда стрястись могла! В этаком месте разве можно лишнее брать?
Едут да всё спорят. Вот уж река показалась. Миновали мост, свернули к Телячьему броду, остановились.
Божко свистнул, вышли три водяницы. Одна ловко в бочку забралась, а две другие и так, и этак — никак не управятся, не догадаются, какой стороной влезать, помощь надобна. Божко и рад помогать.
— Ра?.. — спрашивает волк тихонько. Он-то надеялся, может, и Раду возьмут.
— Не поедет она, — покачала головой Чернава, облокотясь на бочку. — Не упросишь. Далече от боли ушла, ничего не помнит, смеётся. Пусть так и будет.
Вот уж Божко наобнимался с водяницами — весь вымок, дурень, сам усмехается, рот по уши растянул. В бочке небось и воды на донце осталось, всю выплескали.
— Ехать пора, — говорит Умила и на волка глядит. — Что же ты, так побежишь?
Он головою мотает.
— Останешься? — догадалась она. — Марьяше ещё чем поможешь?
Он кивнул.
Не стала Умила его держать, только присела да обняла крепко.
— Береги себя, — говорит. — Как с делом управимся, где мне тебя сыскать?
Он ей растолковал: там, где дорога к Перловке сворачивает, не доезжая до брошенных полей, стоят близ опушки леса два сухих дуба. Место приметное. Умила кивнула, запомнила.
— Знать бы ещё, что будет, когда мы яйцо да перо в Перловке оставим, — говорит. — Я ведь тебя и расспросить не могу о том, кто же нам у реки встренулся, но ежели ты её хоть чуть знаешь да веришь, мне и того довольно. Да что же будет, какая тебе помощь? Не сойдёт ли с тебя волчья шкура? Нет, об том бы она, верно, сказала…
А ночь уж на исходе, говорить да гадать некогда. Прижался волк в последний раз к её плечу, а там лбом подтолкнул, головою мотнул: уезжайте, мол! На Божка фыркнул: береги!
Долго он вслед телеге глядел. Её уж и не видно, да ещё слышна конская поступь по мёрзлой дороге, да вот будто девичий смех волною плеснул. Не ошибся ли, отпустив их одних? Нагнать ещё не поздно…
Всё же потрусил к Белополью. В эту пору запел петух — кричит, распевается. Другие ещё молчат, ещё черным-черно, а этому хоть бы что.
Пробирается волк тёмной улицей. Видит издали, у Тихомировых ворот огонь жгут, стража дозор несёт. Он и туда, и сюда — нигде не укрыться. Прокрался тогда задами со стороны садов, высмотрел, где в высоком терему оконце светится. Нигде кроме не жгут огня. Должно быть, Марьяша с Тихомиром в путь собираются, их двор и есть. Тут всё вишнями позаросло, забор не так крепко стоял, нашлась и лазейка на волчью удачу. Он туда шмыг!
Ищет, где старая яблоня, ищет, впотьмах и не разберёт. А со двора уж голоса летят,