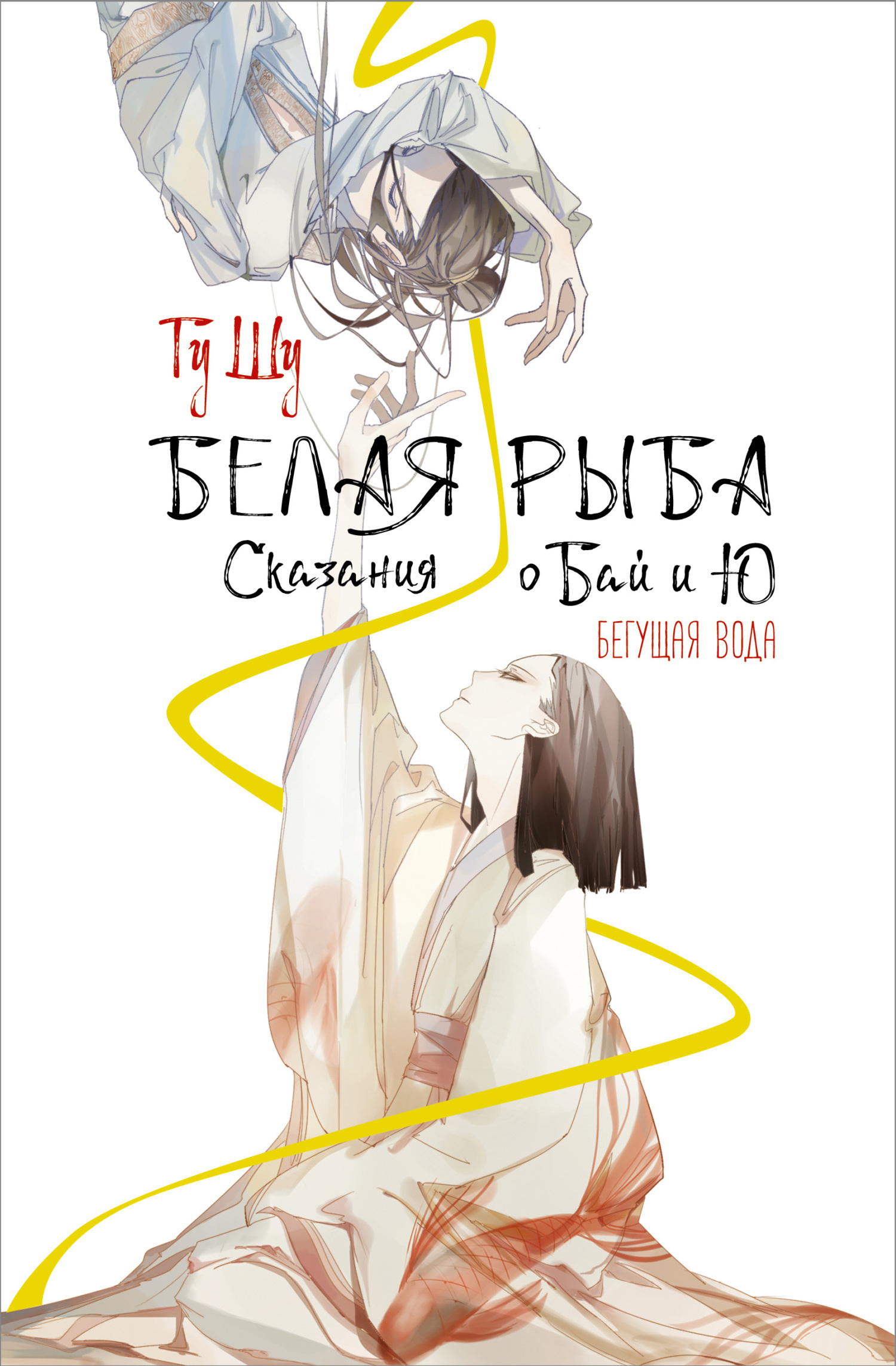живо сыскалось: между кладбищем и озером в одну ночь выросла избушка. Сама ветрами, дождями побита, на крыше серые травы от ветра колышутся, желтеет иссохший мох, и уж больно эта избушка на лесную сторожку похожа. Да ещё диво — поле белым-бело, а на неё ни одной снежинки не упало.
Тут же Марьяша хлопочет, тканые дорожки перетряхивает, разрумянилась. Рядом с нею парень в красных сапожках, да отчего-то в бабьем тулупе и платке. Он на коленях стоит, снега возьмёт горсточку, сомнёт в ладони да приглядывается. Увидала Марьяша, кто идёт, дорожку выпустила, руками всплеснула и к ним.
— Ничего, — смеётся, — проживём! — и добавила тихо, указав глазами: — А это царевич наш. Он, бедолашный, снега допрежь не видал, всё взаперти сидел, ему нынче всё в диковину.
А волк-то меч приволок, на снег опустил. Увидала Марьяша меч. Она уж и так улыбалась, а тут будто засветилась, глаза сверкают.
— Вот батюшке радость-то будет! — говорит. — Они там, на холме, избы осматривают, в одной-то всем не с руки ютиться. Как же батюшка горевал-то, бедный, думал, меч в чужие руки попадёт, нынче утешится. Да чем же вас отблагодарить?
— Много ли здесь людей? — с надеждой спросила Умила. — Вы с батюшкой, а кто ещё?
— А царевич наш, да ещё нянька его, а боле никого из людей, — сказала Марьяша и, заметив, как Умила переменилась в лице, взяла её за руки и участливо проговорила: — Что ты, милая? Так и не сыскала батюшку?
Умила хотела ответить, да слова не шли. Она головой покачала, а после всё-таки спросила сдавленным голосом:
— А при Казимире, как вы ехали, не было ли…
Марьяша встревоженно поглядела и ответила жалостливо:
— Всё токмо царёвы люди при нём были, я каждого знала. Да ведь он мог твоему батюшке иное дело сыскать, ты прежде времени не тревожься! Он-то, вишь, назвался волхвом да слово дал в нашем царстве всю нечисть поизвести, погнать али в Перловке запереть…
Говорят они, а волк разглядывает царевича. Волосы у того совсем белые, как снег, а глаза прозрачные, как вода, только один в синеву, а второй с зеленцой. Не такие ли глаза у речной нечисти? Подменыши, говорят, дети водяных…
Царевич всё в сторону глядит. Волк на него уставился без стеснения, да вдруг понял, что царевич-то и сам на него смотрит, только глаза у него косят, уходят влево. Неловко стало волку, фыркнул он и отвернулся. А царевич к нему подполз и говорит:
— Ко мне матушка не приходить, оттого что нет у меня красивой рубахи. У батюшки моего птица-жар живёть, мне рубаху из её перьев сошьють, матушка тогда любить меня будеть. А я уж её и так люблю, только как же я её отсюда увижу? Прежде в окошечке видав…
Голос у него детский, гнусавый да жалобный, да теперь ещё Завид разглядел, что царевич горбат. Неужто и впрямь проклят? Такое, пожалуй, хуже, чем в волчьей шубе ходить. Родные мать да отец отреклись, заперли…
Горько стало Завиду, не смог он больше глядеть на царевича. Вцепился зубами в перевязь и побежал к холму, к избам, хоть Тихомира порадовать. Бежит по следам, видит — двое шли, и будто мужики, сапоги здоровенные. Тихомир босым уезжал, видно, уж справил обувку — ишь, не лапти, сапоги! Нехудо… А второй кто, неужто нянька? Поглядеть бы на эту бабу!
Привели его следы на холм, на окраину.
— А мне так эта изба по нраву, — раздался знакомый голос, и на порог вышел Добряк. — Она к лесу ближе. Я как медведем оборочусь…
Тут он волка увидал и осёкся. И волк перевязь выпустил, глядит, моргает.
— Это чё, я не понял? — спросил Добряк. — Это чё ты такой? Что ж, и птица не помогла? Зазря я всё?..
— Батюшка! — донёсся крик из-под холма.
Добряк тут и вовсе за сердце схватился, едва дышит. Умила добежала, на грудь ему кинулась, обнимает, всё приговаривает:
— Батюшка, родненький, милый мой! Уж не чаяла живым увидать…
С ней и Божко явился, в затылке чешет да спрашивает:
— А чего сказали, будто других людей нет? А дядька Добряк тогда кто?
— Да чё!.. — тонким сиплым голосом воскликнул Добряк, отстраняясь от дочери. — Это что ж творится, ты мне скажи! Не помогла птичья кровь?
Прижал тут уши волк, а Умила и говорит осторожно:
— Да он, батюшка, птицу-то отпустил…
Добряк на мгновение опешил, похлопал глазами и протянул спокойно и будто ласково:
— Отпустил? Вишь как, отпусти-ил… — и рявкнул на волка, темнея лицом: — Отпустил, пентюх! Я за-ради тебя тут маюсь, возьми тя короста! Я ж тебе, паскуде, доверился, думал, ты за жёнкой моей приглядишь да за Умилой, будет мужик в доме, а ты не мужик, а пёсий выродок! Ещё и Умилу сюда приволок… Ну, держись — разобью тебе морду и рыло, да скажу, что так и было!
Он вмиг скинул тулуп и взялся засучивать рукава.
— Батюшка, батюшка, что ты! — вскричала Умила, заступая ему дорогу.
Из дома уже вышел и Тихомир, хмурясь и потирая лоб. Видно, у него трещала голова. Тут он углядел свой меч и сказал радостно:
— Ведь мне это не примстилось? Друг мой старый, самый верный, не коснутся тебя руки чужие…
Тут и Добряк заприметил меч и наклонился его поднять.
— Зарублю! — заревел он совсем уж не человеческим голосом.
Божко так и застыл с раскрытым ртом. Тихомир что-то кричал, вопил Добряк; они сцепились у меча, отталкивая друг друга и молотя кулаками.
— Беги, беги! — закричала Умила волку, прижимая руки к груди. — Беги скорее!
Тот понёсся с холма, поджавши хвост. Летел, взрывая снег, и забежал бы и вовсе неведомо куда, не разбирая дороги, да тут на пути у него встала старуха — откуда только взялась! — та самая, в красном платке, с которой они у реки повстречались.
Остановился волк, тяжело дышит, бока ходуном ходят. Позади, слышно, Умила зовёт, его нагоняет. Нагнала, тут же на старуху уставилась.
— Мы всё сделали, как велено было! — говорит сердито, сама отдышаться не может. — Где же наша награда? Проклятие как избыть?
— Нешто я знаю! — ворчливо сказала старуха и, обернувшись к одинокой избе, поглядела на царевича. — Вишь, я не сильна в проклятиях. Почитай двадцать годов у него нянькою… Да и тоже — сделали, как велено! Перо-то взяли короткое, обманула вас птица.
— Для чего перо-то? — спросила Умила.
— Вот что: я важное скажу, а ты запоминай, — обратилась старуха к волку. — Я Раде клятву дала царевича спасти, да вижу, сил моих не хватит. Нынче я