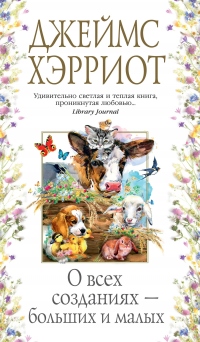Джордж. – Когда мы только начинали, нам так не казалось, но теперь это так, и я это понял.
– Как и я, – сказал Голдстайн.
Голдстайн был из тех людей, с кем можно было просто помолчать, и некоторое время они сидели в тишине. Затем Джордж заговорил:
– Возможно, вопрос покажется вам неуместным, но я должен задать его. Сумели ли вы обрести покой? Я видел в газетах объявления в поисках информации каждый год, и мне очень жаль.
– Покой? Нет, не сумел.
Старик опустил глаза и уставился на стол: секунда, две, их хватило бы, чтобы перед ним извиниться – затем он снова взглянул на Джорджа слезящимися старческими глазами. Мы смотрим сквозь толщу вод…[156]
– Это было настоящей пыткой, – сказал Голдстайн. – Не знать, что случилось на самом деле. После такого вряд ли можно прийти в себя. Вспомните Примо Леви[157].
Снова настала тишина, Джордж не стал ее нарушать. Не стал извиняться. В этом не было необходимости. Голдстайн коснулся его руки: кожа старика была мягкой, словно пудра.
– Вот какие мысли приходили мне в голову раньше. Представьте, что вы лишились ног. Весь остаток вашей жизни – сплошная боль. Ограниченные возможности. Унижение. Постоянное чувство стыда. Но идут годы, несмотря на это, вы все еще способны слушать хорошую музыку, читать интересные книги, заниматься любовью с женой – без ног, конечно, зрелище еще то, но все же…
Джордж рассмеялся.
– Ну вот, вы опять за свое, – сказала Джулия.
– Вы чувствуете то же, что и остальные люди. Удовольствие. Наслаждение. Радость. Быть может, даже счастье. Видите, насколько необъятна и прекрасна жизнь. Вам достаются крохи блаженства. Да и кому достается что-то большее? Возможно, провидцам. Фанатикам… В остальном же все переживают преходящие счастливые мгновения, они им достаются или не достаются, или они за них борются, или они их забывают, вот только у них есть ноги. А у вас нет. Каждый день вы просыпаетесь, и ночью вам снилось, что у вас есть ноги, и вот снова оказывается, что у вас их нет. Каждое утро вспыхивает надежда, и каждое утро она угасает.
Он коротко взмахнул рукой, словно хотел сказать: на этом все.
Джордж кивнул.
– Принести вам чего-нибудь? – спросил он.
Голдстайн удивленно взглянул на него, словно тот хотел предложить ему какую-то мелочь, например, кусочек фрукта, в качестве компенсации за жизнь, полную боли.
– Неплохо бы еще чаю.
Джордж повернулся к Джулии.
– Да, – сказала она. – Можно кусок вон того шоколадного торта? Того, большого, что на витрине.
Джордж сказал пару слов бариста и вернулся за столик.
– Я попросил ее принести пару вилок, – сказал он Джулии.
– Нам не нужны две вилки. Если, конечно, вы не голодны. Взгляните на него, разве похоже, что он ест торты? Он вообще ничего не ест, так, поклюет, как цыпленок.
– Знаете, я все еще говорю с ним, – сказал Голдстайн. – И чувствую, как он мне отвечает.
– Правда?
– Ну, не то чтобы он говорил мне: «Привет, пап». Иногда я говорю сам с собой, бормочу себе что-нибудь под нос, представляя, каким бы он был сейчас, или каким он был тогда, по-разному бывает. И иногда я что-то ощущаю. Присутствие чего-то доброго рядом. Любви. Или тонкого, еле ощутимого аромата радости. Он полон счастья. Я полностью разбит, но он счастлив. Должно быть, смерть чем-то схожа с обретением истинной веры.
Старик говорил очень медленно, тщательно подбирая слова, так же тщательно, как в своей квартире сорок лет назад. С долгими паузами, и сейчас он надолго умолк.
Затем он сказал:
– Как и все остальные стереотипы, этот правдив. Годы действительно летят быстро. Но все-таки это годы, и со временем от них устаешь. И умираешь.
– Рано еще, – сказал Джордж. – Не сейчас.
– Да, вот именно. Мы все говорим одно и то же.
Снова пауза.
Голдстайн сказал:
– Вы напомнили мне сцену из «Седьмой печати» Бергмана, ту, в которой Макс фон Сюдов, рыцарь, говорит Смерти: «Стой, подожди!» И Смерть отвечает: «Все говорят одно и то же».
Они смотрели друг на друга. Джордж рассматривал возможность смерти так, как ее понимал. А понимал он ее как возможность быть размолотым в порошок под пылающей кучей обломков или умирать так, как умирала его мать – в молчании, с полными страха глазами, утыканным катетерами и зондами.
Старик похлопал Джорджа по руке.
– Что ж, сынок, пока что продолжайте. Это тоже цитата. Когда Владимир обращается к Эстрагону. Помните?
Джордж напряг память. Владимир, Эстрагон…
– Беккет?
– Да, – сказал Голдстайн. – «В ожидании Годо». Я был на премьере, где играл Берт Лар. Я был молод. В каком году это было, тысяча девятьсот пятьдесят шестом? Не помню. Много лет спустя ее ставили по новой, в «Вивиан Бомон», и потом еще раз, нечто чудовищное с Мадонной и Робином Уильямсом. Она, по крайней мере, выглядела пристойно. А он был совершенно неуправляем.
– Так что Владимир сказал Эстрагону?
– Почти в конце, на несколько строчек раньше, Эстрагон говорит: «Я больше так не могу», а Владимир отвечает: «Тебе так только кажется».
– А.
– Строка из этой пьесы стала моим ориентиром. Я постоянно повторял ее жене.
– Здорово. Должно быть, ей это нравилось.
– Бедняжка, неудивительно, что она меня так ненавидела.
Он засмеялся, снова обнажая свои пятнистые старческие зубы. Его клокочущий хохот снова рассмешил Джорджа.
– Смейтесь-смейтесь, – сказала Джулия. – Вы только и делаете, что смеетесь. Вы не знаете то, что знают женщины. Мужчины как мулы. Мул нужен для работы в поле, но когда мул не делает то, что должен, он только жрет, лягается и испражняется по всему сараю. И еще он тупой.
В ее голосе звучали ирония, осуждение и немалое раздражение.
– Люблю я ее, – сказал Голдстайн. – Я Лир, а кто она – вам известно.
Джордж поднялся из-за стола.
– Джулия, – обратился он к ней, протягивая руку, которую она пожала. – Вы мудрая женщина. Пожалуйста, позаботьтесь о нем и о себе тоже.
Он повернулся к старику, поклонился ему.
– Был рад вас видеть. Очень рад.
– Мне тоже было очень приятно, – сказал Голдстайн. – Но мне пора домой, разбираться с собственными воспоминаниями.
– О, извините.
– Не стоит. Я только этим и занимаюсь. Сами увидите. Старость – сплошные воспоминания.
– Вы забываете все, о чем я вам говорю, – сказала Джулия.
Старик взглянул на Джулию, ткнул пальцем в тарелку:
– Думаю, что все-таки сьем кусочек торта.
– Аллилуйя! – воскликнула Джулия. – Свершилось чудо.
В начале 2016-го в подземке и на автобусных остановках северного Бруклина, восточнее, в Бушвике и Риджвуде, там, где было много молодежи, начали появляться обьявления, впрочем,