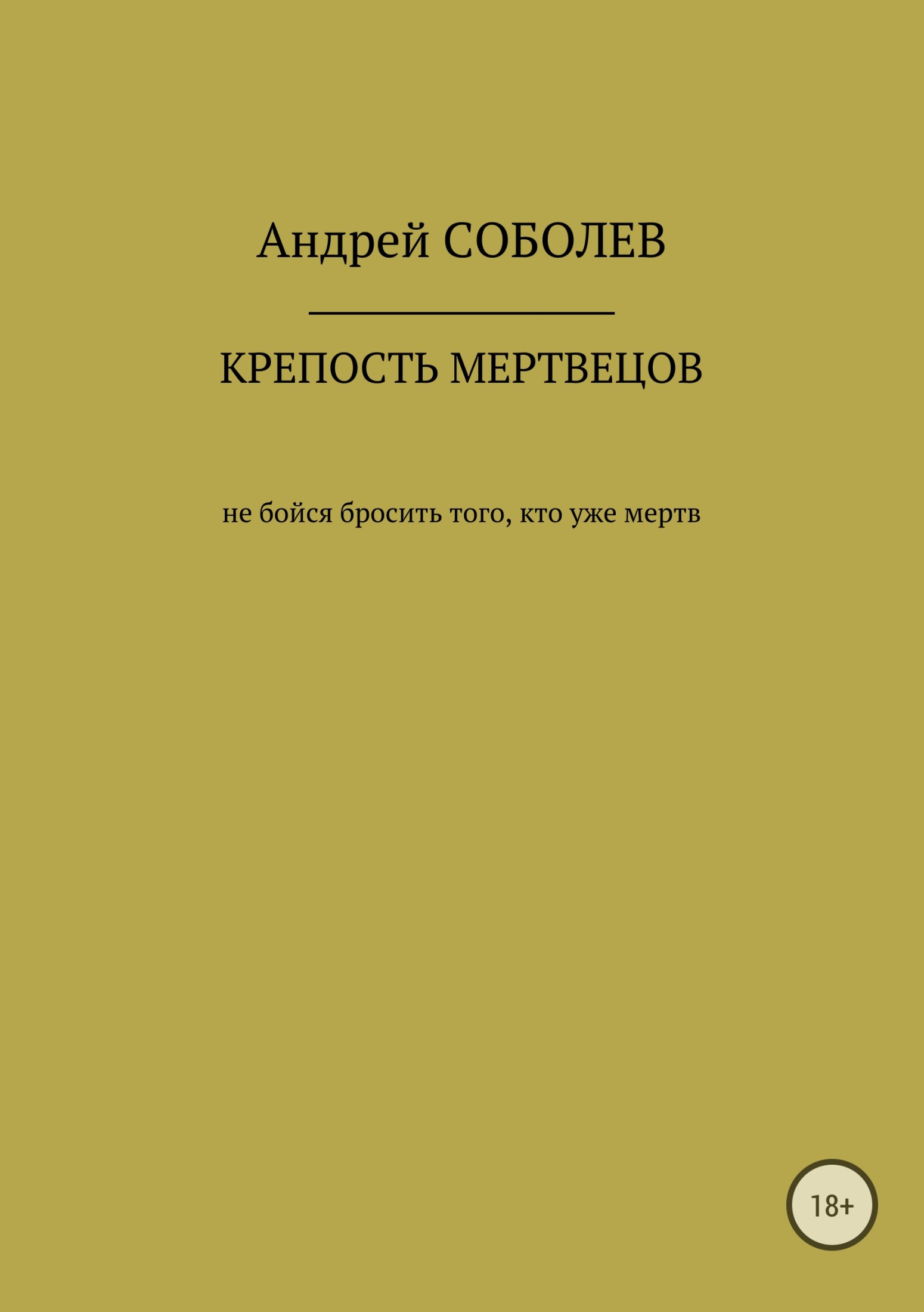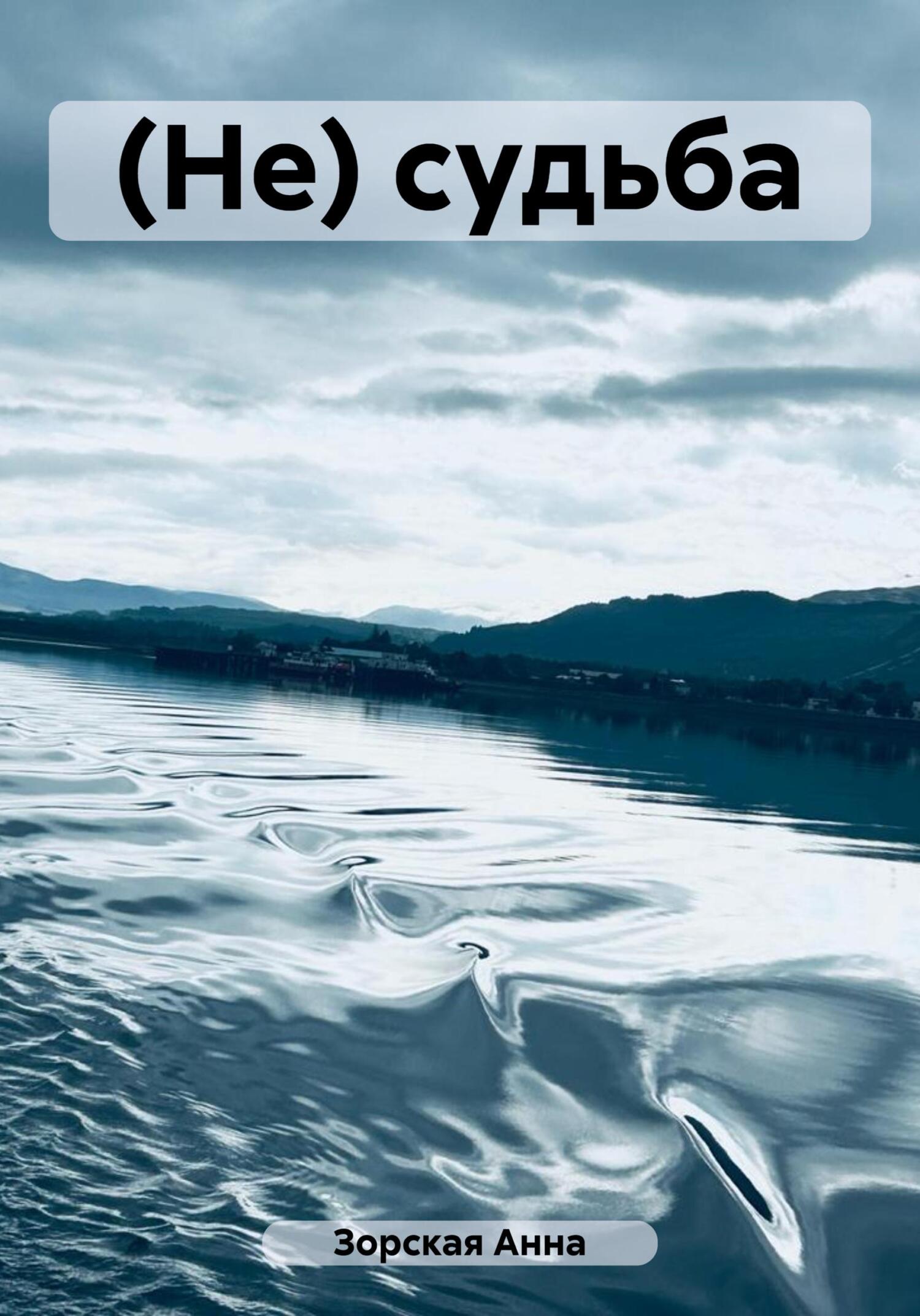один, открывая несессер и разглядывая свое пухловатое привлекательное лицо в зеркало, – поможет ли гривенник, когда все так подло устроено, что один вынужден таскать чемоданы за другим». Так вот, ничто не избавляет так от этих вековых угрызений совести, как необходимость самому волочить собственный багаж: так, говорят, писатель Толстой выходил в поле с плугом, чтобы излечиться от вековечной вины перед собственными крестьянами.
Никакой цели у меня не было: мне просто хотелось убраться прочь от вокзала, но я почти не удивилась, когда на втором или третьем углу нам бросилась в глаза небольшая вывеска «Меблированные комнаты Лион» (в Петербург пришла московская мода называть меблирашки иностранными именами: там были «Америка», и «Мадрид», и «Тулуза»). Для нас там нашлись две комнаты – и я с большим удовольствием передала багаж на попечение шустрого малого в грязноватом сюртучке, который мгновенно его перетаскал к нам на этаж. Он же доставил нам обед из ближайшей кухмистерской (причем не забыл, что я не ем скоромного) и распорядился насчет самовара: собственно, если не считать немыслимых цен, которые он затребовал за свои услуги, было полное ощущение, что мы пересекли на поезде не только границу губерний, но и вернулись в то прежнее, не ценившееся нами время.
Мне казалось, что, покормив Стейси и перекусив сами, мы станем обсуждать, зачем мы, собственно, приехали в Петроград: раньше я не могла добиваться у Мамариной ответа, опасаясь, что она, вспылив, откажется от того, чтобы я ее сопровождала, но теперь стоило поговорить об этом напрямую. Когда после обеда мы сидели в их со Стейси комнате (девочка задремала на кровати, а Мамарина задумчиво смотрела в окно), я вновь попробовала завести разговор.
– Вот вы, Серафима Ильинична, все суетитесь, – как-то даже томно проговорила она, – а посмотрите, как красиво, как идеально ровно сложена стена дома напротив. Вы только гляньте. Аккуратно, твердо – кирпич к кирпичику. И ведь клали небось простые мужички, коломенские да рязанские. Сложили ее до нашего рождения, и будет она стоять еще и после нашей смерти. Иногда я думаю – а что, собственно, останется после меня? От художника остаются его картины, от писателя – книги, но для всего этого нужен талант, которого у меня, как вы знаете, нету или почти нету. Я же понимаю, что все, что я делаю, – это так, капризы, от лености и праздности. Так, значит, никто и не вспомнит меня? Я иногда завидую этим каменщикам: вот какой они себе памятник возвели! Что вы спрашиваете, простите? А то мне как-то нехорошо.
Меня снова затрясло от ярости, но я постаралась сохранить спокойный тон.
– Послушайте, Елизавета Александровна. Вам надо было по какой-то самонужнейшей причине поехать в Петроград – и вот мы здесь. Это потребовало, как вы помните, значительных усилий, но мы с вами справились. Теперь нам нужно решить, что делать дальше. Вы помните, зачем вы хотели сюда попасть?
– Да, – отвечала она совершенно определенно, – чтобы наказать убийц моего мужа.
– У вас уже есть план, как действовать?
– Ну конечно. (Она посмотрела на меня так, как будто я спросила, как она будет есть куриный суп.) Через дядю моего. Я пожалуюсь своему дяде.
Про дядю я слышала в первый раз, но какой-то проблеск логики в ее словах меня скорее порадовал. Впрочем, из дальнейших расспросов выяснилось, что родство ее с подразумеваемым дядей было весьма запутанным и приходилось на самые дальние ветви раскидистого генеалогического древа. Оказалось, между прочим, что Мамарина, несмотря на весь демократизм, любовно следила за своей родословной, охотно перескакивая через несколько поколений кряжистых вологодских купцов к моменту трагического мезальянса вековой давности, от которого тонкая, но непрерывающаяся линия вела в самую глубь истории, к каким-то мрачным бородачам в горностаевых шубах, которые то слепили, то скопили друг друга в борьбе за обладание маленькими растерзанными городами с названиями, кончающимися на «-славль». Где-то в глубине лет, хотя и относительной, эта ветвь, которой Елизавета Александровна явственно кичилась, пересекалась с другой, на конце которой в качестве спелого яблочка болтался последний представитель рода, Гавриил Степанович Викулин. По коммерческим делам он некогда входил в сношения с отцом Мамариной, для чего несколько раз приезжал к нему в Вологду. По ее воспоминаниям, занимал он в Петербурге какую-то крупную должность по судебной части.
На мой взгляд, протекция эта была не просто сомнительной, а вовсе безнадежной: прежде всего мне казалось совершенно невероятным, что после всех произошедших катаклизмов дядя мог сохранить прежнюю влиятельность – если он и не был вовсе сметен революционной волной, то уж должность свою, скорее всего, потерял. Более того, даже если допустить хоть в теории, что он каким-то чудом остался при своих (что сделало бы, конечно, честь его изворотливости), то еще более невозможным мне представлялось, чтобы он стал предпринимать какие-то усилия ради полузабытой дочери своего бывшего компаньона, хоть и дальнего родственника. Доводы эти я, конечно, придержала при себе: гораздо лучше, чтобы Мамарина сама убедилась в тщете своих надежд, и мы бы спокойно отправились обратно.
В Петербурге, как и в Вологде, темнеет рано, и день уже клонился к вечеру, так что мы решили отложить визит к дяде на завтра: я только сходила поискать кого-нибудь из местной прислуги, чтобы раздобыть адресную книгу. Попавшийся мне в коридоре все тот же расторопный малый мигом мне ее предоставил. Затрепана и засалена она была до неприличия, но в переплете еще кое-как держалась; страницы тоже были почти все, хотя один из разделов – а именно «меблированные комнаты» – на всякий случай был изъят: вероятно, чтобы не вводить в соблазн постояльцев объявлениями конкурентов. Это был последний выпуск, изданный еще в 1916 году на следующий, 1917-й, недоброй памяти. Увидев стройные ряды реклам («Элегантные детские наряды мадам Зина», «Художественное ателье Идеал») и долгие вереницы людских имен, я еще раз задумалась о том демоне чудовищной разрушительной силы, которого русские общими усилиями извлекли из темных углов преисподней, где он отдыхал почти сто тридцать лет.
Любое сверхъестественное явление подразумевает вызывающий его ритуал. Индейцы в Южной Америке выбивают мальчику передний зуб, чтобы злые духи, видя его ущербность, им пренебрегали. Негритянка лепит из жира и грязи фигурку своей врагини, после чего втыкает в куклу иголки в надежде, что демоны, ведающие болезнями, с той же прытью вцепятся в ее оригинал. Кое-что в этом же роде умеем делать и мы – без всякой, естественно, крови и грязи. При этом индейцам и прочим невдомек, что вся их возня с предметами предметного мира – это по большей