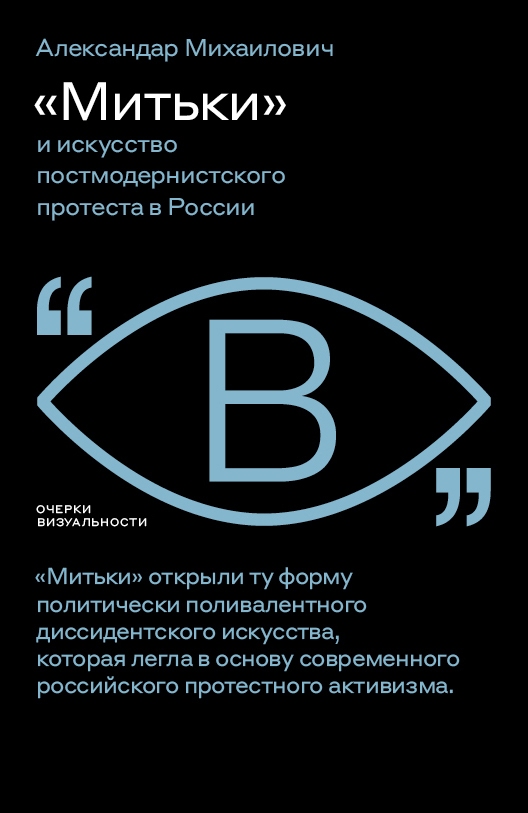Европе, а также конец коммунистического правления в Чехословакии, Польше, Венгрии и Восточной Германии, отделение Литвы и других стран Балтии, конфликт между армянами и азербайджанцами, авария на Чернобыльской АЭС, дефицит продуктов питания и множество иных факторов.
Крах основополагающих советских нарративов ощущался по ходу всего этого периода: например, в январе 1990 года литературный критик А. Г. Бочаров опубликовал статью под названием «Мчатся мифы, бьются мифы»: он писал, что миф о том, что дети были единственным привилегированным классом в СССР, – один из многих, утративших силу [Бочаров 1990]. Не только он говорил о кончине советских мифов. Видный литературный критик и журналист Н. Б. Иванова тоже писала о том, что утопического мифа о построении «светлого будущего» больше не существует [Иванова 1990]. Провозглашенная Горбачевым политика гласности способствовала складыванию нарратива о кончине советских основополагающих нарративов. Публикация множества ранее запрещенных произведений, в том числе «Жизни и судьбы» Гроссмана, его статей о нацистском геноциде (в частности, «Убийства евреев в Бердичеве»), «Архипелага ГУЛАГ» Солженицына и множества других текстов, написанных в советские годы, способствовала переоценке советской культуры и общества. В 2007 году в Малом драматическом театре Санкт-Петербурга был показан спектакль по «Жизни и судьбе» Гроссмана, режиссером выступил знаменитый Л. А. Додин. Провокативное сравнение убийства Гитлером евреев и сталинского ГУЛАГа было в спектакле визуализировано через волейбольную сетку, натянутую по внешней границе и советского, и немецкого лагеря. Сетка оставалась на сцене по ходу всего спектакля, в результате нацистский лагерь и ГУЛАГ оказывались частью домашнего пространства квартиры Штрума в Москве[307]. До постановки спектакля Додин два года разбирал со своими студентами описанные в нем события.
Изобилие старых/новых авторов, характерное для позднесоветского и постсоветского периода, положительным образом сказалось на обнародовании ранее скрытого знания; однако оно же усугубило всеобщее ощущение дезориентации во времени. После шквала воскрешенных публикаций, по словам К. Кларк, «стало сложно даже отыскать момент “сейчас” в эволюции советской культуры» [Clark 1993:299]. Г. А. Белая не видела повода радоваться возвращению в обиход ранее запрещенных произведений. Советская цивилизация потерпела крах, и множество статей, романов, стихотворений и картин из прошлого, «которые кажутся богатством, на самом деле – обломки разных культурных миров, случайно встретившихся в эпоху безвременья» [Белая 1990: 141].
Теории языка Якобсона проливают свет на феномен фрагментации культуры в позднесоветскую эпоху. В статье «Два аспекта языка и два типа афатических нарушений» Якобсон проводит различие между «нарушением отношения смежности», при котором говорящий не в состоянии установить связей между языковыми единицами, и «нарушением отношения подобия», при котором говорящий не в состоянии заменить одно слово другим, улавливая в итоге только смычки между единицами. При отсутствии контекста и связей, возникающем при нарушении отношения смежности, «фраза перерождается в простое “словесное нагромождение”» [Якобсон 1987:106]. Человек, страдающий нарушением отношения смежности, не в состоянии связно рассказать историю. Крах великого нарратива советской культуры означал, что все, так сказать, начали страдать нарушением отношения смежности, поскольку история, которую они слушали семьдесят лет кряду, внезапно утратила смысл. Слова лежали «в руинах», как выразился в 1990 году А. Генис. Нагромождение слов, тел, экскрементов, вещей – лейтмотив советской литературы в 1980-е и 1990-е. Но если перевести часы вперед на десятилетие, в первые годы XXI века, начинает просматриваться другое речевое расстройство, нарушение отношения подобия: слова функционируют в суррогатных сюжетах, лишенных содержания. Кроме того, постсоветская культура часто пытается утешить читателя историями, которые когда-то уже были рассказаны, а теперь появляются в отрыве от своего изначального контекста[308].
Траектория движения от нагромождения слов к фиксированному нарративу – характерная примета перехода от позднесоветского к постсоветскому периоду; произведения петербургского писателя Мелихова служат ярким тому примером. Его неоднозначная повесть «Изгнание из Эдема: исповедь еврея» (1994) построена на иронически-меланхолической тоске по Советскому Союзу, родине, где его, как еврея, никогда не принимали; в повести «Красный Сион», опубликованной десять лет спустя, в 2004-м, все иначе: в ней присутствуют иронические смещения, но при этом возникает ощущение национальной принадлежности, которого в более ранней повести нет. В первой повести тоска нарратора по Советскому Союзу воплощена в Ленинграде; во втором его мечты о родине осуществляются в Биробиджане. В первой повести ярко описан крах советской цивилизации, превратившейся в мусорную кучу вещей и слов; во второй, напротив, старательно подчеркнута надежность опробованного, устоявшегося нарратива.
Мелихов родился в 1947 году, он доктор физико-математических наук. Работал журналистом, входил в состав редколлегии петербургского литературного журнала «Нева», а кроме того, зарекомендовал себя как критик и писатель. «Изгнание из Эдема», получившее Набоковскую премию Санкт-Петербургского союза писателей, – вымышленная автобиография писателя-еврея, носящего звучную фамилию Каценеленбоген. Герой, сын отца-еврея и русской матери, ранние годы жизни, пришедшиеся на позднесталинскую эпоху, провел в Казахстане, на пограничной территории между Россией и Средней Азией. Критик А. С. Нем-зер презрительно суммирует все разнообразное содержание книги как «“еврейский вопрос”, а равно проблемы наций, творчества, индивида и социума, воспитания, демократии, младых поколений, рынка, совка, пола, потолка и совмещенного санузла» [Немзер 1998].
Текст начинается с непростого вопроса. «Скажите, – вопрошает нарратор, – можно ли жить с фамилией Каценеленбоген?» [Мелихов 1994: 3]. Имя, громко произнесенное у «канцелярского окошечка… государственного левиафана», производит тот же эффект, что и слово «сифилис», поскольку «Каценеленбоген» синонимично с «ев…». Нарратор отмечает: проще «плюнуть самому себе в лицо», чем прочитать это слово. Разумеется, именно это-то Мелихов и заставляет нас сделать: прочитать слово «еврей» в подзаголовке «Исповедь еврея». Действительно, в одной рецензии на творчество Мелихова, опубликованной в 2000 году, отмечено, что, когда повесть была опубликована в 1994-м, подзаголовок «Исповедь еврея» все еще скреб по нервам. Читатель как бы оказывается замешан в скандале, который вызывает само слово «еврей», зараженное болезнью и причастное к преступлению, в котором сознается персонаж.
В рецензии Немзера также отмечено сходство между текстом Мелихова и его постсоветским читателем, который более не верит в политические авторитеты и авторитет культуры. Произведение и читатель прекрасно подходят друг другу, потому что злобная меланхоличная и брюзгливая публика взыскует именно таких иронических, безответственных, бесформенных, усталых и анемичных текстов, которые Мелихов ей и предлагает. И текст, и читатель страдают от одного и того же постсоветского недуга: любви, ненависти и тоски, то направленных против внешнего мира, то обращенных на себя. Это такая форма ностальгии, отягощенная амбивалентностью меланхолии; ностальгии, несущей в себе рану.
В «Изгнании из Эдема» меланхолию у героя вызывает антисемитизм. У антисемитизма в руках – всепроникающий рентгеновский луч, выявляющий истину, лежащую под профессиональной лояльностью ассимилированного еврея; его внутренний мир всегда под подозрением. Призывы к ассимиляции и взгляд «рентгена» заставляют героя уничтожить