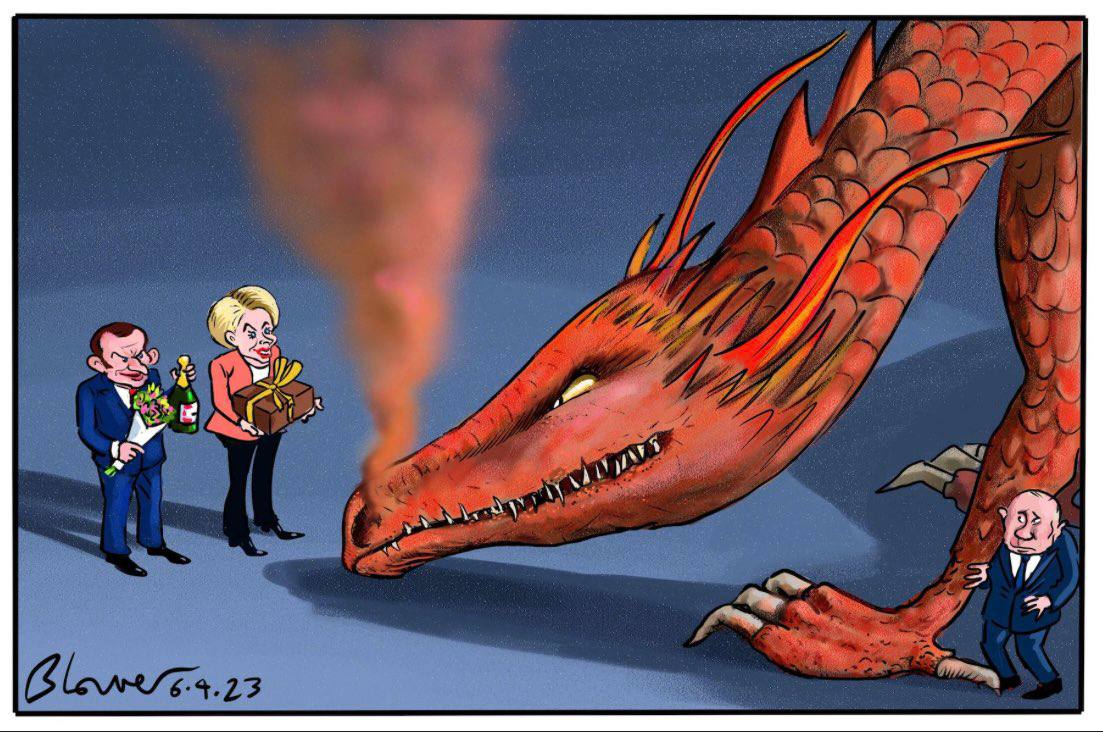Гришин не внял добрым советам министерши и единолично назначил меня главным режиссером. Спрашивается: какие чувства я испытываю теперь к В. В. Гришину? Прямо и попросту ответить не могу, нужен психоаналитик. Аналогичная ситуация с М. С. Шкодиным.
Мы кончили театральные школы в один и тот же год, после чего три сезона проработали вместе в Пермском облдрамтеатре, некоторое время жили вместе в пермской гостинице, наши гримерные столики стояли рядом. Естественно, мы много общались и после выступления Хрущева на XX съезде повели даже по пермским масштабам вызывающе смелые разговоры. Практически антисоветские. Я, помнится, сказал, что небоскребы в Нью-Йорке мне нравятся, потому что их много и они все высокие. А Шкодин, помнится, согласился, но добавил при этом еще, что заграничные мужские носки с резиночкой лучше наших. «Кроме носков, говорят, есть еще товары, которые лучше», – это уже сказал я, завершая тревожную тему. После всего этого в 1958 году я уехал из Перми, оставшись при своем мнении, а Миша Шкодин был вскоре вызван в военкомат. Так он мне потом рассказывал в порыве редкой, но отчаянной откровенности. Хотя повестка и пришла как бы из военкомата, на самом деле Мишу сразу же препроводили в районное отделение КГБ, где сказали строго, что нам, дескать, хорошо известны ваши подлые беседы с уехавшим Захаровым, хорошо бы для вашего же счастья их прекратить с кем бы то ни было. Что было дальше, Миша рассказывать не стал, но я постепенно догадался, что вызвавшая его организация помогла ему перебраться сначала в режиссеры, а потом в Москву на руководящую работу.
Вызвавши меня в главк после «Тиля», засмотренного семьей «портрета», Миша по-дружески, но кисло улыбнулся. Сказал прямо:
– Решение о твоем увольнении принято на самом верху. К нам бумага придет дня через два-три. Знаешь, как мы к тебе относимся, поэтому решили так: тихо, без шума, незаметно переводим тебя режиссером в Театр оперетты. Придет распоряжение – а ты уже на другом месте.
Несмотря на известное огорчение при мысли о «Сильве», я все-таки ответил разумно. Примерно так:
– Спасибо, Миша. Слишком много артистов пришло в театр ради меня, и я не имею права их предавать. Буду ждать официального увольнения.
Спрашивается: почему не пришел приказ об увольнении? Наверное, это наша великая государственная тайна. Что-то кого-то опять куда-то отвлекло. Может быть, кто-то вдруг почему-то раздумал или где-то под ковром на Старой площади случилось такое, какое никому, кроме бывших там, под ковром, не известно. Но ответ может быть и проще: порядка как не было, так и нет.
Мой Миша умел очень сильно хамить как своим непосредственным подчиненным, так и руководителям московских театров. Делал он это с удовольствием и подолгу. Но со мной его связывали пермские товарищеские отношения, и он им остался верен. Не только вяло укорял за идейные ошибки, но однажды совершил важный для моей последующей режиссерской судьбы поступок. Вызвал как-то в главк и спросил:
– Ты хочешь всю жизнь работать под Плучеком? Или хотел бы сам руководить каким-нибудь театром?
Конечно, я ответил, что «хотел бы сам и каким-нибудь театром».
– Мы тут поговорили о тебе, подумали, – сообщил Миша многозначительно. – Возьми лист бумаги и пиши заявление в партию.
Совсем неглупое предложение для 1972 года, хотя в партию меня никогда не тянуло. Не было такого, чтобы проснуться ночью и подумать: «Вот бы в партию!» Но порядок вещей был таков, он всегда казался незыблемым, несмотря на оставленный процент для беспартийных, – получить самостоятельную, интересную, перспективную работу, уклоняясь от марксизма-ленинизма, было почти невозможно. И потом, если честно, никакой персональной ненависти к кому-либо только за то, что он член КПСС, да и к самому марксизму-ленинизму я тогда не испытывал. Мне казалось вполне нормальным, что такие люди, как Юрий Любимов или Булат Окуджава, состояли в партии. Короче, в 1973 году, когда кончился мой кандидатский стаж, я вступил, по рекомендации трех уважаемых людей, в числе которых была Татьяна Ивановна Пельтцер, в ряды КПСС. После вступления я неприлично быстро был вызван в Отдел культуры МГК, где мне было велено прийти в следующий раз в скромном галстуке на заседание бюро, потому что там меня будут утверждать главным режиссером Московского ордена Красного Знамени театра имени Ленинского комсомола.
* * *
Вспоминая замечательные по своей конечной непредсказуемости общения с цензурным прессом, хотел бы заметить, что набор средств воздействия на сомнительных художников был много разнообразнее, чем может теперь показаться. Во-первых, не всегда давили прямо, ломая кости, – иногда только надламывали. Кроме кнута, широко применялись пряники. Во-вторых, разговор с главным цензором (это было чаще в кино) мог начинаться сперва по-дружески, с глазу на глаз. И вопрос мог стоять не только о здоровье мятежного художника, но даже о его бытовых проблемах, иногда даже как бы сообща обдумывался жилищный вопрос. Были в запасе у опытных идеологических надзирателей и такие меры воздействия, против которых устоять простому человеку было не просто трудно – практически невозможно.
После окончательного приема на «Мосфильме» моего фильма «Обыкновенное чудо», где я уже был вынужден сделать досадные заплатки, меня искренне поздравили со сделанными заплатками и уже пожимали руки, когда один из тогдашних телевизионных руководителей, взяв меня под локоток, вывел из просмотрового зала в коридор для окончательного прощания. Там он сказал:
– Как же я все-таки рад за ваше творчество! Причем – искренне.
Я было нацелился на обцеловывание, но поклонник моего таланта добавил:
– Вот только фразочку у Андрея Миронова «Стареет наш королек» давайте уберем. Лично для меня, по-дружески.
– Но ведь ее придумал не я, а сам Шварц! – подавил я спазм в горле.
– По-дружески, – улыбнулся ласковый друг. – Просьба сугубо личная.
Ну, в общем-то, и не совсем личная. За время съемок, как назло, Брежнев как раз постарел.
С «корольком», плача и стеная, я расстался и потом даже смирился. Во-первых, потому, что вскоре собирался снимать «Того самого Мюнхгаузена» по пьесе Г. Горина, а во-вторых, потому, что мой телевизионный друг, обладая известным обаянием и сочувствием, после долгих дискуссий, раздумий и мучительных сомнений все-таки оставил столь смущавшую всю редактуру «Мосфильма» песенку Миронова о бабочке, которая крылышками бяк-бяк-бяк-бяк и за которой рванул воробушек.
– Чего это воробушек с ней сделал? – спрашивали меня редакторы «Мосфильма», сощурясь.
– Воробушек возжелал дуру-бабочку как бы скушать, – отвечал я со всей доступной мне искренностью.
– Нет, – говорили мне наиболее умные редакторы. – Он от нее другого захотел, поэтому и погнался.
– Что вы! – махал я рукой на редактуру. – Тема чисто гастрономическая.
– Сексуальная.
– Гастрономическая.
Конечно, я лукавил, изворачивался,