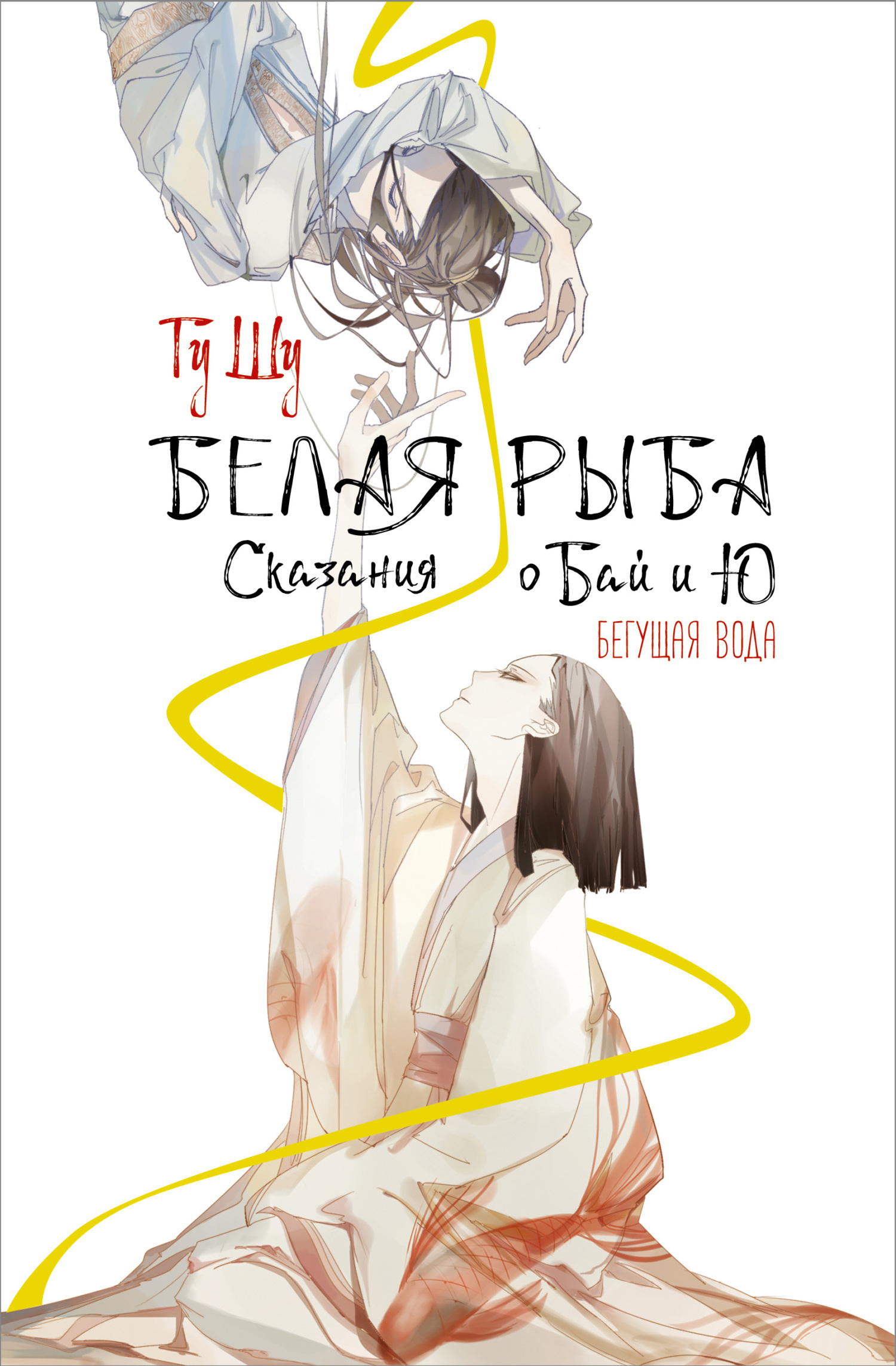его. Сколь годов в царском терему подменыш, а Борис уж не молод, помрёт, и что дале с подменышем делать? Ведь не на царство садить…
Он примолк и вздохнул. Слышно было, Марьяша сказала:
— Дай хоть раны твои промою.
— А, — с досадой сказал Тихомир, будто отмахнулся. — Нешто это раны… Казимир ещё, пёс проклятый, ко мне подошёл и шепчет на ухо: место зачаровано будет, что нечисти не выйти и не войти. Так, мол, ежели надеешься жену хоть когда увидать, ты эту надежду оставь. А вот люди, сказал, вольно ходить сумеют, захотят явиться с кольями да с огнём — придут… Тут я ему в рыло и залепил, насилу нас растащили! Борис на то шибко разгневался.
Он ещё помолчал и спросил жалобно:
— Да, может, колдун его чарами опутал? Как можно о дружбе-то позабыть? Ведь на смерть нас посылают, дочь родимая! Сгонят туда нечисть лютую, а мне и меч булатный взять не позволили. Токмо одну укладку собрать велели, взять порты да рубахи, а боле, сказали, нам ничего и не пригодится. Смеялись…
— Ох, тятенька! — всхлипнула Марьяша.
— Да вот что: ты ещё спастись сумеешь, — грубовато сказал Тихомир. — Пёс этот проклятый… Тьфу, пропасть, да как этакое вымолвить! Сказал, придёшь к нему своею волей, тогда здесь останешься, будешь жить за его головой. Он тебе терем золочёный выстроит не хуже царского, а там, как знать, и для меня милости добудешь…
— Тятенька! — вскричала Марьяша.
— Да чё тятенька? — осердился Тихомир и бухнул кулаком по стене. — Это его слова, не мои! Уж не думаешь ли, что я за-ради милости этой тебя продам? Я ему, паскуде, в горло вцепился и сам дивлюсь, как не придушил. Крепкая у него шея! Ну, тут меня и отходили…
И неохотно прибавил:
— До завтра тебе сроку. Может, решишь, что не хочешь погибать. Я, знай, судить не буду…
— Да лучше с нечистью жить! Я тебя не покину, куда ты, туда я. Ежели смерть суждена, так и в смерти тебя не оставлю!
Примолкли они. Слышно, плачут. Волку уж и слушать неловко. Умила ему в бок уткнулась, тоже всхлипывает. Божко сопит — и впотьмах видать, брови сдвинул, гневается. Как бы не ринулся вперёд, заступник, с непрошеной помощью не полез.
— Ничё, — сказал Тихомир. — Не будем горевать раньше времени, поглядим, может, оно и не худо выйдет. Сдюжим, говорю! Ты, дочь, укладку собирай, а я меч зарою в саду под старой яблоней. Он мне тоже товарищ верный, негоже, чтоб его руки чужие брали. Подавятся!
Ушёл Тихомир, Марьяша в подклет заглянула, сама слёзы утирает.
— Слыхали? — говорит. — Небось колдун и царевича извести задумал! Видно, мало ему советником быть, на царёво место метит.
Села на ступени, всхлипнула:
— А ведь матушка-то моя верила, что царевич не подменён! Всё на птицу-жар надеялась — как жаль, что та на волю вырвалась! Небось и тут без колдуна не обошлось…
Сказала, и в слёзы. Умила ну её утешать, только о птице ни слова не говорит. Знает, кто повинен, да молчит.
Стыдно волку. Как ни мудри, а совести не перемудришь. И с птицею худо вышло, да и с нечистью. Если подумать, сколько в тех слухах правды? Для него всё забава была — кладовик, да черти, да зелен огонь, да костяной медведь, — всё смех! Не думал, не гадал, что колдуну это на руку.
— Вы идите, — говорит Марьяша, — покуда батюшка в саду. Пёс у нас жил, цепка осталась, я дам, чтобы люди косо не глядели, так волка и выведете.
— Отчего бы вам самим не уйти? — предложила Умила. — Соберите, что можно. У нас лошадь с телегою…
Марьяша головой покачала.
— Нас, я чаю, легко не отпустят, Казимир того не позволит. Ежели ненадолго и уйдём, нагонят. Все, кто нам помогал, головою ответят. Вы уж идите, покуда и с вас не спросили, что вы делали в нашем дому.
— Мы уж вас не покинем, — твёрдо сказала Умила. — Мне бы батюшку сыскать, а там поглядим, чем вам помочь. Мы от Перловки недалече живём, через лес, а батюшка мой и с лешим в ладу, и с болотником.
Покуда они говорят, волк всё думает, как быть. Вот Марьяшино шитьё притащил, бросил, на иглу лапой указывает, после мордой на Умилу.
— Что ж ты, спрашиваешь, умею ли я так ладно шить да вышивать? — спросила та, упирая руку в бок. — Нашёл когда об том заговорить! Что же, мне тут за шитьё и приняться?
Волк головой мотает. Надобно ему, чтобы Умила иглу взяла, себе в рубаху воткнула. Возился он, возился — добился того, что его поняли. Отдала Марьяша иглу.
— Да что ты задумал? — пытают его.
Он во дворе кое-как нацарапал, мол, водяницы, к ним пойдёт. У Божка тут глаза разгорелись: ишь ты, водяницы! Нешто покажутся в эту пору? Да так ли они красивы, как сказывают, и в рубахах ли ходят или нагишом? Он с дружками, бывало, на берегу их ночами выглядывал, да никогда не видал…
— Ты и с водяницами знаком? — дивится Марьяша.
И Умила, видно, дивится, только не рада, губы поджала. Волк глаза отводит, хвостом помахивает, чует, что едва вернёт себе человечье обличье, многое объяснять придётся. Ворона ещё с забора глядит, да вот каркнула хрипло, насмешливо.
Марьяша права оказалась: бежать бы им с отцом не дали. Снаружи у ворот уж стояли трое, лениво переговариваясь, и ещё один сидел в стороне на перевёрнутой бочке и сердито глядел на ворону. Сторожили двор, чтобы Тихомир с дочерью не сумели уйти от царской милости. Углядели они волка, тут же разговоры бросили да спросили:
— Кто таковы?
— Зверь наш убёг, — отвечает Умила. Косу она уж свернула, под шапкой спрятала, говорить пытается грубым, низким голосом. — Добрые люди сказали, будто видали его в этом дворе. Вот, заберём да уйдём.
— Отчего это он у вас вольно бродит?
— Да невнарок вышло! Больше не повторится.
По счастью, сторожам было недосуг заниматься этим делом. Отпустили, только велели не широкой и людной дорогой идти, а окраинами, да немедля уехать и более не попадаться. Тот, что сидел на бочке, не утерпел, метнул камень в ворону. Снялась она с забора и с криком полетела прочь.
Уж вечереет, небо тучи облегли. Вышли трое к окраинам, идут кружной дорогой вдоль опустевших полей. Ветер посвистывает, сухие былины качает, а то улетит к далёкому берегу. Там на бугре стоят молодые ёлочки, в реку глядятся. Тихо стоят, да вот как начнут от ветра отмахиваться, гнать его прочь!
Умила волка